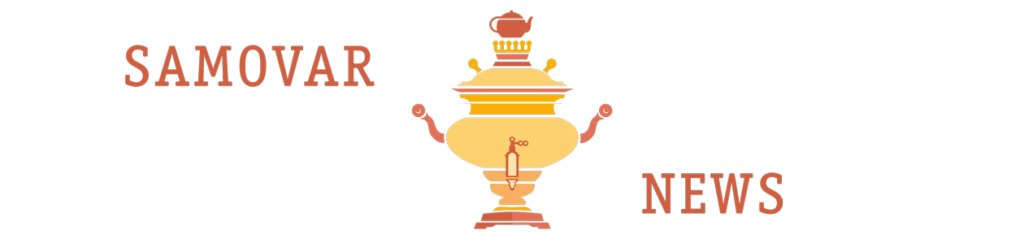.

.
– Роман Владимирович, чем именно в глобальной цепочке критических минералов сейчас выделяется Индонезия?
– Начнём с того, что это не только крупнейшая страна в Юго-Восточной Азии, но и ведущее горнодобывающее государство региона. Есть в Индонезии и критические минералы, и она их активно осваивает.
.

.
Индонезия
– В частности, эта страна остаётся крупнейшим в мире производителем никеля, оставив всех конкурентов далеко позади себя. Так, глобальные запасы никеля сегодня оцениваются примерно в 130 млн т, из которых 55 млн т принадлежит Индонезии. Мировое производство никеля в 2023 году составило порядка 3,6 млн т в год, из которых 1,8 млн т пришлось на Индонезию. Ближайший конкурент по запасам – Австралия (24 млн т), по добыче – Филиппины (400 тыс. т). Для сравнения: запасы никеля Китая – всего 4,2 млн т, США – и вовсе 340 тыс. т, а уровень добычи в этих двух странах в 2023 году достигал соответственно лишь 110 тыс. т и 17 тыс. т.
Кроме того, Индонезия занимает второе место по запасам олова (после Китая) и третье по его добыче (после Китая и Мьянмы), а также шестое по запасам бокситов и пятое по их производству. Есть в стране, конечно, и много другого ценного сырья, но его значительно меньше. Хотя, к примеру, по объёмам запасов и добычи золота и меди Индонезия тоже входит в десятку мировых лидеров. А в индонезийской провинции Центральное Папуа расположен крупнейший в мире золотомедный рудник «Грасберг» (Grasberg). Не так давно доля в 90,64% предприятия, осваивавшего это месторождение, принадлежала американской горнодобывающей компании Freeport-McMoRan Inc. Теперь эта доля сократилась до 48,77%, а участие индонезийских властей увеличилось до 51,23%. Правда, как минимум до 2041 года управлять рудником всё равно будут американцы.
Между тем, в последние два десятилетия Индонезия очень активно наращивала добычу ценных полезных ископаемых. Например, в 2010-2020 годах страна в 33 раза увеличила выплавку никеля, а в 2015-2020-х – в 54 раза производство бокситов. Столь высокие темпы роста индонезийской горнодобывающей отрасли связаны главным образом с внешним спросом на критические минералы и повышением инвестиций в этот сектор. При этом важно понимать, что Индонезия не столько сама всем этим занимается, сколько привлекает иностранные компании. И, забегая наперёд, отмечу, что основной толчок этому развитию дал не кто иной, как Китай.
Напомню, что Индонезия проводит политику так называемого ресурсного национализма, которая напрямую касается и критических минералов. Суть её заключается в том, чтобы как можно больше добываемого сырья перерабатывалось на месте, а не вывозилось из страны в виде руды или каких-то концентратов. В идеале индонезийцы хотят создать собственные полноценные производственно-технологические и логистические цепочки по ряду имеющихся у них критических минералов, как это было сделано в Китае, чтобы охватить весь производственный цикл – от рудников и до конечных продуктов. В рамках реализации такой политики соответствующим образом совершенствуется законодательство, вводятся ограничения и прямые запреты на экспорт сырья, предоставляются льготы на импорт необходимых оборудования, техники и технологий. Ведётся очень активная работа по наращиванию перерабатывающих мощностей. Благодаря этому Индонезия превратилась в ведущую страну ЮВА и по переработке полезных ископаемых. На её долю уже сейчас приходятся наибольшие объёмы регионального производства, очистки и выплавки уже готовых металлов – никеля, ферроникеля и олова.
Всё это, в частности, касалось и развития никелевой производственно-технологической цепочки. Ещё в 2009 году Индонезия впервые объявила о запрете экспорта никелевой руды, который должен был вступить в силу с 2014-го. Впоследствии временные запреты снимали и заново вводили ещё несколько раз. Одновременно Правительство Индонезии сократило пошлины на импорт оборудования, техники и всего того, что необходимо для внедрения в стране технологий переработки, ввело налоговые льготы для локализации соответствующих производств, упростило процедуры для осуществления иностранных инвестиций в это направление бизнеса.
.

.
Объявление каждого запрета на экспорт необработанного никеля неизбежно приводило к скачкам мировых цен на него. Но спрос на никель продолжал стремительно расти из-за поступательного увеличения потребностей в нём со стороны КНР. А поскольку Китай изначально выстраивал свою производственно-технологическую цепочку именно под внушительные индонезийские запасы сырья, как и под индонезийскую руду с достаточно высоким содержанием целевого элемента, всё это привело к тому, что китайские инвесторы были вынуждены начать активно вкладываться в создание перерабатывающих предприятий уже в самой Индонезии.
В результате китайские компании вложили в различные сегменты индонезийской никелевой цепочки свыше 30 млрд долларов. Предприятия по переработке никеля были сконцентрированы в индустриальных парках «Моровали» (Indonesia Morowali Industrial Park, IMIP) и «Веда-Бей» (Indonesia Weda Bay Industrial Park, IWIP), где сейчас по-прежнему доминируют Tsingshan Holding Group и другие китайские компании. Базовые производственные мощности в IMIP и IWIP заработали в 2021-2022 годах, но промышленные площадки там продолжают активно развиваться. Интересно, что одним из побочных продуктов переработки никеля стал кобальт, по выпуску которого Индонезия тоже стремится занять серьёзные позиции. Впрочем, развитием и этого направления там занимаются главным образом китайцы.
Таким образом, фактически именно Китай стал локомотивом создания никелеперерабатывающей отрасли Индонезии. Кстати, на аналогичный эффект от проводимой политики индонезийцы рассчитывали и по бокситам. И хотя делалось всё ровно то же и так же, в итоге это привело к совершенно противоположным результатам. Когда индонезийцы начали вводить временные запреты на экспорт бокситов, ключевые импортёры этого сырья, в том числе Китай, быстро переключились на альтернативных поставщиков. И место Индонезии в этой цепочке успешно заняла Малайзия. Поэтому, хотя, в принципе, Индонезия и остаётся одним из значимых игроков в этой сфере, но её старания создать собственную мощную отрасль по переработке бокситов пока не увенчались успехом.
.

.
Тем не менее, индонезийцы планируют и дальше проводить политику ресурсного национализма, а, по возможности, даже расширять её охват. Она распространяется уже не только на никель и бокситы, но и на другие элементы, такие, например, как олово и медь. Причём, теперь поставлена задача привлечь как можно больше иностранных инвесторов, но уже не китайских. Правда, пока эта задача так и остаётся нерешённой.
Помимо этого, есть и ещё как минимум одна очень большая проблема на пути реализации масштабной стратегии Индонезии по формированию собственных производственно-технологических и логистических цепочек по образу и подобию Китая. А именно – страна не только не обладает достаточными знаниями, технологиями и финансовыми ресурсами, но, что, на самом деле, главное – не имеет всех необходимых для этого полезных ископаемых.
Так, в рамках развитие той же никелевой цепочки Индонезия давно уже прорабатывает возможность создания собственной автомобильной промышленности. И эта работа сейчас активизировалась. Речь идёт, прежде всего, об электрокарах, которые, по сути, и являются условно конечным звеном в никелевой цепи. Поэтому также озвучены и планы создания в стране производств по выпуску литий-ионных аккумуляторов для тех самых электромобилей. Однако у индонезийцев нет своего лития. Совсем. То есть литий для Индонезии – тот самый критический минерал, который придётся где-то искать, у кого-то закупать и откуда-то завозить. Соответственно, создаваемая никелевая цепочка в любом случае будет неполной и крайне уязвимой.
Как можно догадаться, литий – далеко не единственный минерал, который остаётся критическим для Индонезии. А значит, так или иначе, но индонезийцам придётся, как уже и было отмечено, рано или поздно выбирать между Китаем и США.
.

.
Филиппины
– Как обстоят дела с ценными полезными ископаемыми на Филиппинах?
– Филиппины, вообще-то, входят в пятёрку самых богатых стран мира по минеральным ресурсам. Даже несмотря на то, что с геологической точки зрения территория страны изучена довольно слабо, это островное государство обладает запасами такого ценного сырья, как никель, медь, цинк, золото и серебро, которое там практически не осваивается. Хотя остающиеся в недрах нетронутыми богатства оцениваются суммарно как минимум в 1 трлн долларов. Однако тех поисково-разведочных работ, что были проведены, уже хватило, чтобы Филиппины вошли в десятку мировых лидеров по запасам никеля. При этом, страна остаётся вторым по значению производителем этого минерала после Индонезии, в то же время вдвое опережая по объёмам добычи ближайших отстающих конкурентов.
Что и неудивительно. Когда индонезийцы стали вводить запреты на вывоз никелевой руды из своей страны, китайцы начали инвестировать в создание перерабатывающих предприятий в Индонезии. А освободившиеся в Китае перерабатывающие мощности, работавшие на индонезийском сырье, стали обеспечивать филиппинцы. Таким образом, Филиппины заполнили эту нишу, превратившись в крупнейшего поставщика никелевой руды в Китай.
В последние годы производство филиппинского никеля увеличивается, правда, темпы роста заметно отстают от индонезийских. Проблема в том, что до 2021 года в стране действовали запреты на разработку новых никелевых месторождений, поэтому добывающая отрасль развивалась не слишком активно. Но, в конце концов, власти Филиппин запреты сняли, и уже в 2022 году объявили о перспективах запуска в эксплуатацию 10 новых никелевых рудников. Так что теперь можно ожидать более интенсивного развития данного направления.
Помимо никеля на Филиппинах добывают в достаточно значимых объёмах золото и медь, а также кобальт. По ним есть уже разведанные, но ещё не разработанные запасы. А с учётом слабой геологической изученности, по этим позициям просматриваются очень неплохие перспективы.
.

.
– Золото тоже могут включать в перечень критических минералов?
– Процесс переоценки значения золота для глобальной экономики идёт уже достаточно давно. Всё чаще этот минерал рассматривают не столько как драгоценный металл, сколько как элемент, который всё чаще и больше используется в производстве высокотехнологичной продукции. Допустим, в космической и оборонной промышленности, электронике, энергетике, металлургии, медицине, фармакологии и так далее. Пока его включают в список критических минералов как бы условно, но всё говорит о том, что в любой момент эта ситуация может кардинальным образом измениться. И это станет большим подарком для филиппинцев и, кстати, тех же индонезийцев.
Что касается горнодобывающей отрасли Филиппин, а тем более перерабатывающей, они, по большому счёту, находятся, если и не в зачаточном состоянии, то, как минимум, на начальном этапе своего развития. Хотя сегодня в стране действует четыре завода по переработке золота, два – по первичной обработке никеля, и один – по очистке меди. Мощность они пока имеют не слишком большую, но считаются крайне важными с точки зрения технологического развития Филиппин и региона в целом.
.

.
Малайзия
– Какие ещё государства ЮВА имеют особое значение в контексте развития мирового сектора критических минералов?
– В первую очередь, это – Малайзия, Вьетнам, Мьянма и Таиланд. Прежде всего, потому, что они выступают крупнейшими поставщиками на мировой рынок редкоземельных металлов, но и не только.
Так, Малайзия занимает четвёртое место в мире по запасам редкозёмов после Китая, Вьетнама и Бразилии, хотя по объёмам их добычи находится на почётном 10 месте, деля его всё с той же Бразилией. При этом в 2023 году эта страна стала вторым по величине поставщиком редкоземельных элементов в США, увеличив свою долю в американском импорте с 8 до 11%. Впрочем, это стало возможным не столько благодаря стараниям самих малазийцев, сколько австралийцев.
Дело в том, что австралийская горнодобывающая компания Lynas Rare Earths, Ltd., являющаяся ведущим производителем редкозёмов за пределами Китая и владеющая одним из крупнейших в мире редкоземельным рудником «Маунт-Уэлд» (Mount Weld) в Австралии, построила в Малайзии перерабатывающий комплекс Lynas Advanced Materials Plant (LAMP). Соответственно австралийское сырьё поступает на малазийское предприятие, где из поставляемых концентратов производятся разделённые редкоземельные материалы, которые поставляются Соединённым Штатам и их союзникам.
С одной стороны, LAMP – крупнейший в мире подобный завод и единственное крупное предприятие по переработке редкоземельных элементов за пределами Китая. Очевидно, что он имеет стратегическое значение, причём, не только для стран ЮВА, но и в глобальном масштабе. Благодаря ему Малайзия занимает второе место в мире по переработке редкозёмов, что делает завод особо ценным в глазах, прежде всего, коллективного Запада. С другой – предприятие стало огромной проблемой для Малайзии в экологическом плане.
LAMP был запущен в эксплуатацию ещё в 2012 году фактически при полном попустительстве малазийских властей, которые дали на это разрешение, несмотря на то, что у австралийских инвесторов в принципе отсутствовал долгосрочный план утилизации отходов производства. В итоге побочным продуктом завода стали не просто токсичные, но и радиоактивные элементы, которые просто складировали в непосредственной близости с предприятием. В 2023 году объём этих отходов превысил 1 млн т.
Власти Малайзии были вынуждены выделить для австралийцев землю под постоянное захоронение уже имеющихся отходов, но потребовали прекратить импорт и переработку содержащего радиоактивные материалы сырья. А также дальнейшую эксплуатацию действующей установки крекинга и выщелачивания, которую настойчиво попросили вынести за пределы страны. В самой же Малайзии было предложено очищать и перерабатывать только промежуточные редкоземельные материалы австралийского происхождения. Lynas пообещала разобраться с этой ситуацией, но, насколько известно, пока так и не решила насущных проблем.
Между тем, вполне возможно, что малазийцев попытаются заставить смириться с текущим положением дел. Совсем недавно США, а конкретно – Пентагон, подписали контракт по реализации на территории Соединённых Штатов проектов по дальнейшей переработке тех самых редкоземельных материалов, которые выдаёт австралийский комплекс в Малайзии. А, соответственно, LAMP уже занял стратегическое место среди ключевых активов того самого альянса MSP, который называют «НАТО металлов и минералов», и теперь американцы вряд ли позволят кому-то эту историю переиграть.
Конечно, малазийцы, в общем и целом, недовольны таким положением дел – очевидно, они рассчитывали на то, что получат от австралийцев технологии, необходимые для эффективного освоения собственных запасов редкоземельных металлов. Однако Lynas явно не испытывает желания делиться с Малайзией вообще чем-либо.
.

.
В то же время с обращением за помощью к Китаю малазийцы, похоже, опоздали – Пекин уже ввёл запрет на экспорт технологий извлечения и разделения редкоземельных металлов. Китайцы, безусловно, могли бы начать финансировать развитие собственно малазийского редкоземельного сектора. Ведь, в 2023 году Малайзия выступала вторым по величине экспортёром соответствующей руды в КНР после Мьянмы. Причём, подавляющую часть этих поставок, по заявлениям малазийской стороны, составили контрабандные объёмы, обеспеченные за счёт нелегальной добычи редкозёмов. Но с января 2024 года правительство Малайзии ввело мораторий даже на официальный экспорт необработанных редкоземельных металлов, в расчёте на то, что это стимулирует официальные же иностранные (главным образом – китайские) инвестиции в сектор переработки этого сырья. Удивительно, но с тех пор этого почему-то так и не произошло.
И, кстати, дело тут не только в упомянутом «великом китайском запрете», но, наверное, даже в бóльшей степени, в том, что, по сути, малазийский сектор редкозёмов по-прежнему регулируется в рамках общих правил добычи полезных ископаемых, что категорически неверно. Нет специального законодательства, нет и специализированных государственных компаний, которые могли бы регулировать развитие новой отрасли. А, как результат, нет и крупномасштабных официальных инвестиций, в том числе – китайских.
Впрочем, редкоземельные металлы – это далеко не всё, чем интересна Малайзия для глобального рынка. В отличие от тех же Индонезии и Филиппин, страна не делает ставку на медь, никель и кварцевые породы – не то, чтобы их там нет совсем, просто ими пока никто всерьёз не занимался. Зато малазийцы сосредоточились на добыче золота, марганца, олова и бокситов.
Так, например, когда Индонезия ввела в 2015 году запрет на вывоз необработанных бокситов, её место в китайском импорте сразу же заняла как раз Малайзия – в компании с Австралией. Однако уже в 2016-м малазийское правительство ввело мораторий на добычу бокситов, что, кстати, было связано с рядом экологических проблем. В 2019 году этот мораторий сняли, но к тому времени рынок сбыта этого сырья так сильно трансформировался, что восстановить прежние позиции Малайзии уже не удалось.
Несмотря на это, страна остаётся одним из региональных лидеров по производству алюминия, выпуск которого с начала 2010-х вырос в десятки раз. Как и его экспорт, главным образом, в Китай.
.

.
Вьетнам
– Вьетнам тоже имеет мировое значение в контексте развития сектора критических минералов?
– Безусловно. До последнего времени Вьетнам, по данным геологической службы США (USGS), занимал второе место по запасам редкоземельных элементов после Китая, обладая долей в 20% от их общемировых объёмов. Однако у вьетнамцев были свои методики расчёта, и хотя они не подтверждали американские оценки, но и не опровергали их. Конечно, в заявлениях представителей власти Вьетнама, то есть – политиков, периодически проскакивали прежние данные USGS, но профильные вьетнамские специалисты вели себя на этом фоне очень аккуратно и старались не афишировать имеющиеся у них данные. Больше было их значение или меньше и насколько – неизвестно, но с американскими оценками они, судя по всему, точно расходились. А не так давно Геологическая служба США существенно пересмотрела оценку запасов редкоземельных металлов во Вьетнаме в сторону уменьшения. Насколько эта переоценка соответствует реальному положению дел – покажет время.
Между тем, запасы эти пока практически и не осваиваются – по объёмам добычи Вьетнам, хоть и входит в десятку мировых лидеров, но занимает среди них всего лишь предпоследнее место. Собственных разработок в стране немного, кроме того, поскольку основная часть ресурсов сосредоточена в северо-западной части страны, ближе к Китаю, там процветает нелегальная добыча и контрабанда сырья к соседям. Аналогично тому, что, в принципе, происходит, в Малайзии и Мьянме. Но реальные масштабы этого явления, как нетрудно догадаться, оценить довольно сложно.
В целом, если рассматривать Вьетнам на фоне любого другого государства ЮВА – ничего нового: огромная, нетронутая кладовая ресурсов, отсутствие технологий их добычи и переработки. Но всё это, с учётом самого уровня разведанных запасов редкоземельных металлов, делает Вьетнам практически незаменимым потенциальным участником глобальной производственно-технологической и логистической цепочки для коллективного Запада. А, соответственно, США со своими союзниками активнейшим образом работают над тем, чтобы любыми способами и средствами получить доступ к вьетнамским ресурсам.
Правительство Вьетнама заинтересовано в развитии редкоземельного направления – поставлена задача к 2030 году наращивания добычи и переработки до 2 млн т руды и производства порядка 60 тыс. т эквивалента оксидов редкоземельных металлов в год. Однако в 2023-м даже те относительно «скудные» официальные объёмы добычи сырья, что были достигнуты ранее, снизились вдвое. А произошло это совершенно неспроста.
.

.
Создавшуюся во Вьетнаме ситуацию прекрасно демонстрирует история освоения крупнейшего в стране редкоземельного рудника – Dong Pao («Донг Пао»). По данным USGS, это второе по величине месторождение редкоземельных металлов в мире. Изначально, до 2015 года, его разработка была отдана в распоряжение двух японских компаний – Toyota Corp. и Sojitz Corp., но его освоение стало нерентабельным для японцев из-за ценовой политики Китая и они вышли из проекта. Прибрать «Донг Пао» к рукам сразу же захотели американцы. Поэтому одним из важнейших подписанных документов во время визита американского президента Джо Байдена во Вьетнам осенью 2023 года стал меморандум, касающийся перспектив разработки редкоземельных элементов в стране. Он предполагал, что на этом направлении во Вьетнаме будут активно работать не только США, но и их союзники – Австралия, Южная Корея, Япония. Только бы не китайцы.
Непосредственно по «Донг Пао» удалось достичь предварительных договорённостей, но что-то пошло не так – проект был приостановлен по непонятным причинам, которые никто объяснять не стал. Американцы сразу же попытались передать эту эстафету австралийцам – компаниям Australian Strategic Materials (ASM) и Blackstone Minerals Ltd. Но произошёл скандал с вьетнамской государственной компанией Vietnam Rare Earth (VTRE) – она единственная в стране, которая занимается развитием редкоземельного направления. В связи с серьёзными обвинениями в коррупции было арестовано несколько крупных руководителей VTRE, включая председателя правления вьетнамской компании. В итоге проект освоения «Донг Пао» был заморожен на неопределённое время, поскольку, как можно понять, коррупционный фактор присутствовал уже на этапе предварительных договорённостей с американцами.
Всё это создало ситуацию неопределённости в целом для отрасли и для иностранных инвесторов, что серьёзно помешало реализации изначальных планов Вьетнама по редкозёмам. Впрочем, вьетнамцы не слишком с этим спешат. Во-первых, в стране недостаточно проработанное законодательство, которое слабо регулирует редкоземельный сектор. Во-вторых, Вьетнам хочет развивать отрасль подобно тому, как это делает Индонезия в никелевом сегменте. Однако в данной сфере технологии добычи и переработки более сложны и ещё более засекречены их обладателями. А соответственно, сделать тут что-то быстро просто не получится.
.

.
– С какими ещё ценными полезными ископаемыми могут быть связаны перспективы развития Вьетнама?
– Горнодобывающая отрасль во Вьетнаме растёт очень заметно. В частности, это крупный производитель висмута и вольфрама – второй по объёмам добычи в мире. Весьма серьёзными считаются перспективы производства меди. Помимо этого, есть разведанные запасы бокситов, графита, никеля, серебра, олова, титана, цинка, циркона. Страна занимает третье место в мире по запасам бокситов, существенную часть которых составляет галлий – достаточно редкий элемент не только для ЮВА, но и в целом. Но пока производство бокситов здесь очень небольшое, поскольку подавляющее большинство предприятий в стране не обладает технологиями даже извлечения этих ресурсов, не говоря уже о переработке.
Пока во Вьетнаме далеко не всё разведано, но даже и многое из того, что выявлено в недрах, остаётся фактически нетронутым – достать это вьетнамцы сейчас просто не в состоянии. Но над этим они в последнее время стали очень активно работать, в том числе с подачи коллективного Запада, страны которого в этом крайне заинтересованы и готовы инвестировать в сектор критических минералов. Потому, что во Вьетнаме есть то, чего или нет у соседей, или проще с логистикой. Например, та же медь в Лаосе есть, но вывозить её оттуда тяжело, из Вьетнама – гораздо легче.
.

.
Мьянма
– Одним из самых перспективных кладезей критических минералов в мире считается Мьянма. Чем именно она интересна?
– Мьянма – это тоже, в первую очередь, редкоземельные металлы. По объёмам их добычи эта страна занимала в 2023 году третье место в мире соответственно после Китая и США. Но каков реально уровень производства, как, впрочем, и их запасов в Мьянме остаётся загадкой. Мьянманские месторождения редкозёмов находятся в штатах Шан и Качин (основное место добычи – Качин), которые в значительной степени контролируются местными вооружёнными этническими формированиями. Они же играют определяющую роль на бóльшей части границы Мьянмы с китайской провинцией Юньнань, куда, собственно, всё это добро и вывозится. При этом нужно понимать, что никто в Мьянме самостоятельно не занимается ни добычей, ни экспортом редкозёмов. Весь процесс контролируется китайскими компаниями, которые фактически имеют полную монополию по всему спектру производства и логистики мьянманских редкоземельных металлов и продуктов их переработки. Поэтому, хотя с реальной статистикой тут и довольно сложно, но примерно понять роль и место Мьянмы в этом секторе не составляет особых проблем.
При этом, не секрет, что по некоторым позициям эта роль является базовой или как раз-таки критической. Например, в стране добывается порядка 60% всего мирового диспрозия и тербия. В том числе и благодаря этому Мьянма обеспечивает около 70% поставок сырья в соседний Китай для производства средних и тяжёлых редкозёмов, включая те самые тербий и диспрозий. Поэтому вполне можно понять почему же с 2015 года доля Мьянмы в мировом производстве редкоземельных металлов выросла с 0,2% до 14%. Это – по данным международного энергетического агентства IEA. Для понимания – диспрозий и тербий используются при изготовлении неодимовых магнитов, которые сегодня применяются очень широко, в том числе в таких продуктах, как, допустим, жёсткие диски и электромобили.
Очевидно, что строительство перерабатывающих предприятий в этом секторе Мьянмы даже не предвидится. Между тем, никто не отменял проблем экологических, которые уже дают о себе знать в полный рост. Однако пока редкозёмы остаются одним из основных источников дохода, похоже, никто тут ничего менять особо не собирается. Впрочем, мьянманские этнические группировки периодически пытаются использовать редкозёмы в качестве инструмента политического давления на Китай, что китайцам, понятное дело, совершенно не нравится. Но это не более, чем предмет торга за то, как будут дальше распределяться доходы от этого бизнеса, на каких условиях и основаниях. Всё это, в принципе, вполне решаемо и в целом на общую картину в секторе редкоземельных металлов, скорее всего, никак не повлияет.
.

.
Таиланд
– Какие-то ещё государства ЮВА есть смысл выделять особо в деле развития глобального сектора критических минералов?
– Таиланд. Эта страна является пятым по величине производителем редкоземельных элементов, которые в необработанном состоянии отправляет в Китай, оставаясь вторым экспортёром на этом направлении после Мьянмы. Обладает запасами и других ценных минералов, которые в некотором количестве добывает.
До последнего времени Таиланд рассматривали больше как потребителя критических минералов, чем производителя. Достаточно сказать, что не так давно китайский гигант BYD открыл в стране завод по производству электромобилей. И, по мнению аналитиков, такой шаг – только начало, поскольку в Таиланде действует льготная система налогообложения для компаний, которые обязались построить в стране заводы по производству электрокаров. Кстати, большинство из них – китайские.
Однако в начале 2024 года было заявлено, что на юге Таиланда, в провинции Пхангнга, было открыто крупное месторождение лития. Это ключевой, базовый элемент для тех же аккумуляторов, для электромобилей. Изначально было заявлено, что обнаружено 14,8 млн т запасов, что автоматически делало страну одним из мировых лидеров по запасам лития – третьим после Боливии и Аргентины. Затем очень быстро внесли ясность, заявив, что их неправильно поняли, что запасы меньше. Что 14,8 млн т – общий объём обнаруженных минеральных субстанций – сырья. Оно было обнаружено в виде минерального озера лепидолита, содержащегося в породе пегматит, с содержанием оксида лития в среднем 0,45%. Вроде бы не очень много, но объёмы выявленных ресурсов достаточно большие.
Что там, помимо этого, пока непонятно – предстоит разбираться. Между тем, по тем оценкам, которые сами тайцы дали, при нормальной добыче и хорошей переработке извлечённого лития хватит на 1 млн аккумуляторных батарей для электромобилей. С Боливией и Аргентиной, конечно, не сравнить, но сам факт того, что литиевые месторождения были найдены в Таиланде, это уже сенсация. А что там обнаружат помимо лития – большой вопрос. В любом случае, у Таиланда появилась новая точка роста по критическим минералам.
Что касается других стран ЮВА, таких как Лаос, Камбоджа, Сингапур и Бруней, пока они не сильно выделяются по перспективам развития направления критических минералов. Хотя никто не может точно сказать, чего следует ожидать даже уже в обозримом будущем.
.

.
Очевидное-вероятное
– Как вы оцениваете перспективы деятельности государств ЮВА в секторе критических минералов?
– Многие из них имеют планы по активному технологическому развитию в современных реалиях. Это – как бы такой общий момент для всех этих государств, включая даже Лаос и Камбоджу. Но все они очень бояться превратиться в своего рода «яблоко раздора» между Китаем и коллективным Западом. Такие перспективы, связанные с сильной политизацией процесса освоения минеральных ресурсов, никому из них категорически не нравятся. Именно политические риски они считают наиболее мощной преградой для своего дальнейшего развития. Они не хотят, чтобы их ставили перед жёстким выбором – либо КНР, либо США и союзники. Потому, что, например, откажись сейчас Индонезия от китайских, скажем так, услуг, попроси Китай на выход, и она очень резко потеряет во всём. Понятное дело, что, если такое вдруг случится, это будет под обещания Запада, что он займёт эту нишу после выдавливания Китая. Что американцы и Ко. придут со своими технологиями, инвестициями, финансовой поддержкой и так далее. Но гарантировать никто этого не может и, скорее всего, не будет. А на такой риск ни Индонезия, никто другой в регионе идти просто не готов.
.

.
– Может ли эта ситуация сыграть на пользу России?
– Думаю, что очень даже может. Один из базовых факторов как страны ЮВА надеются решить проблему нахождения между молотом и наковальней (США и Китаем) – привлечь как можно больше новых, условно говоря, третьих игроков. Это однозначно предоставит им больше свободы и пространства для манёвра. Поэтому, при желании и наличие определённой политической воли, Россия могла бы этой ситуацией грамотно воспользоваться, никак не задев при этом чувства китайцев. Государства же АСЕАН, все и каждое в отдельности, как раз и нацелены на раскладывание яиц по разным корзинам. Недаром же та же Индонезия пошла на сближение с Россией по многим направлениям, даже в плане закупки вооружений, несмотря на то, что Запад на индонезийцев явно давит. И перспективы здесь огромные, поскольку страны регионы открыты к подобному взаимодействию, которое, по определённым причинам, не могут им предоставить ни американцы, ни китайцы.
На самом деле, ЮВА в плане критических минералов – поле непаханое для всех – огромная, фактически ещё нетронутая кладовая. И в освоении её нам бы могло найтись достойное место. Опять же – были бы желание и воля. А то, что с той стороны интерес к этому есть, можно даже не сомневаться.
Беседу вёл Денис Кириллов
Часть I здесь: