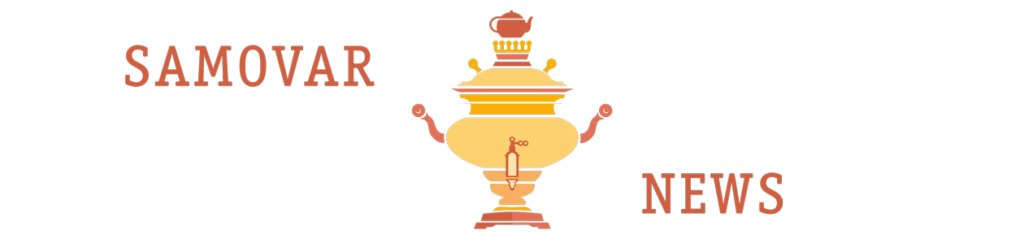Критические минералы – полезные ископаемые, которые жизненно важны для эффективного развития мировой экономики и ведущих её участников. Составляя основу высокотехнологичных производств, они остаются незаменимыми и крайне необходимыми для совершенствования и дальнейшей эволюции большинства отраслей современной промышленности, создания новых направлений и сфер деятельности, а также внедрения достижений научно-технического прогресса. Эти минералы могут иметь особое значение как для человеческой цивилизации в целом, так и для отдельных государств в частности.
Их критичность определяется целым рядом факторов, главные из которых – редкость и слабая географическая распространённость соответствующих элементов; малая концентрация в месторождениях и ограниченный доступ к ним; сложность процессов производства и переработки; нарастающий дефицит сырья и перебои в его поставках на фоне стремительно растущего спроса, провоцирующие усиление конкурентной борьбы за определённые ресурсы; особенности экономической, торговой, экологической и социальной политики различных государств, а также постоянно меняющиеся геополитические условия.
Единого общего списка критических минералов не существует. Включаемые в подобные перечни элементы варьируются от страны к стране, поскольку степень важности того или иного сырья для каждого конкретного государства определяется их правительствами. И вносятся в списки в зависимости от потребностей стратегических отраслей в соответствующих ресурсах и возможностей удовлетворения спроса на них с учётом существующих рисков перебоев с обеспечением ими. В то же время и сам термин «критичность» не имеет согласованного определения – всё зависит от стратегии каждой конкретной страны и окружающего контекста, опираясь на которые в это понятие могут вноситься коррективы в связи с теми или иными изменениями ситуации.
Например, Евросоюз составлял списки критических минералов ещё с 2011 года. А в мае 2024-го вступил в силу Европейский закон о критическом сырье, где указан перечень из почти трёх с половиной десятков элементов, часть из которых определена в качестве стратегических. В том числе: металлы платиновой группы, тяжелые и лёгкие редкоземельные элементы, висмут, бор, кобальт, медь, галлий, германий, литий, магний, марганец, графит, никель, кремний, титан, вольфрам, сурьма, мышьяк, бокситы, барит, бериллий, коксующийся уголь, полевой шпат, плавиковый шпат, гафний, гелий, ниобий, фосфорит, фосфор, скандий, стронций, тантал и ванадий. Британский список критических минералов, принятый в 2022 году и обновлённый в 2023-м, включает перечень из 18 элементов. В американский «окончательный» список 2023 года было включено 18 критических материалов и 50 минералов.
При этом ЕС не способен самостоятельно обеспечить себя критическими минералами и планирует к 2030 году вывести собственную добычу сырья лишь на уровень не менее 10% годового потребления. Великобритания не производит ни одного из 18 критических элементов своего списка. А крупнейшим производителем 30 из 50 важнейших для США полезных ископаемых остаётся Китай, который к тому же является их ведущим переработчиком и изготовителем конечной продукции из критических минералов.
На этом фоне из-за высоких геополитических рисков огромное значение для испытывающих соответствующий дефицит государств приобретает крайняя необходимость создания безопасных цепочек бесперебойных поставок критических минералов. Тем более, что, согласно существующим прогнозам, в целом к 2040 году потребность мировой экономики в этих элементах увеличится как минимум вчетверо, в то время как спрос на отдельные минералы, такие, например, как кобальт, графит и литий, вырастет даже не в разы, а в десятки раз.
.

Роман Погорелов
.
– Роман Владимирович, в последнее время в мире стали уделять особое внимание так называемым критическим минералам. С чем это связано?
– Термин «критические минералы» появился относительно недавно. Но буквально в последние год-два произошёл своего рода сдвиг, который качественно изменил ситуацию в мире вокруг полезных ископаемых, которые стали включать в списки особо важного сырья. В итоге сейчас их зачастую называют уже даже не «критические», а «конфликтные» минералы. Разногласия и противоречия в этой сфере, безусловно, отмечались и раньше, но теперь они приобрели совершенно другой смысловой оттенок.
.

.
Противостояние систем
– В 2022 году США инициировали создание нового транснационального альянса – так называемого Партнёрства по безопасности полезных ископаемых Minerals Security Partnership (MSP), костяк которого составили Евросоюз и ещё 14 государств мира. Помимо собственно Соединённых Штатов и ЕС, в MSP вошли, в частности, Великобритания, Германия, Франция и Италия, Австралия, Япония, Южная Корея и Индия, а также Канада, Швеция и Норвегия. Как было заявлено, главная цель альянса – обеспечить стабильные поставки важнейшего сырья для США и их союзников.
Речь идёт о критических минералах. Но особенность ситуации в том, что, если лет 10-12 назад перечень этих элементов включал в себя в основном лишь редкоземельные металлы, то сейчас он очень серьёзно расширился. Причём, список этот не окончательный – его границы размыты, поэтому, в зависимости от обстоятельств, США и союзники могут корректировать перечень в своих интересах, переводя в категорию критических интересующие минералы, либо же вычёркивая их из списка.
Формально всё это преподносится как стремление сформировать основу для создания устойчивых производственно-технологических и логистических цепочек, связанных с рядом особо ценных на сегодняшний день полезных ископаемых, необходимых главным образом для производства высокотехнологичной продукции – начиная от смартфонов, солнечных батарей, ветряков и электромобилей, и заканчивая изделиями военно-промышленного комплекса и космической отрасли. Но и здесь – ещё одна интересная особенность. Создание таких цепочек предполагает не просто диверсификацию поставок критически важных минералов для снижения зависимости коллективного Запада от конкурентов, но формирование, по сути дела, своего рода профильного закрытого клуба «только для своих». То есть, поставлена задача – объединить весь потенциал в этой сфере, которым обладают США и их союзники, а всех остальных из этих цепочек выдавить, по возможности, полностью. И это – ключевой, базовый момент формирования MSP.
Прежде всего, планируется изолировать на этом направлении Россию и Китай, поскольку американцы считают, что в настоящее время именно эти две страны имеют непропорционально большое влияние в области критических минералов. В то же время аналогичная судьба будет ждать и тех нейтральных игроков, которые не захотят безоговорочно принять в этом вопросе сторону коллективного Запада. По этой причине MSP даже стали называть «НАТО металлов и минералов».
Таким образом, ключевое изменение на данном направлении за последние годы – резкая политизация вопроса освоения важных ресурсов, их переработки и поставки на мировой рынок. Если раньше всё это не сильно выходило за рамки обычной конкуренции между ведущими глобальными или даже региональными игроками, которые были встроены в единые производственно-технологические и логистические цепочки и, по сути дела, были завязаны друг на друга, то теперь переместилось в область основного геополитического разлома. Сейчас здесь уже не столько борьба за сферы влияния или за прибыль, сколько попытка провести чёткие линии разграничения – так называемые «красные линии». Для того, чтобы затем отсечь всех тех, кто, по тем или иным причинам, сильно «не нравится» США и их союзникам. Суть такого подхода, инициированного американцами, можно обозначить следующим образом: все, кого в данном случае удастся отсечь, безнадёжно отстанут в своём развитии, в то время, как ведущие государства коллективного Запада и, прежде всего, Соединённые Штаты, неизбежно вырвутся далеко вперёд.
Между тем, Китайская Народная Республика (КНР) продолжала придерживаться своего прежнего подхода, по крайней мере, если отталкиваться от официальной риторики Пекина. Китайцы не желают конфронтации и разъединения, и делают упор на конкуренцию. Они успешно встроились в глобальный мир, выстроили под него свою систему, стали выигрывать конкурентную борьбу и заняли ведущие позиции. Чем для Китая может обернуться противостояние с коллективным Западом – сказать сложно, поскольку, в принципе, созданная китайцами финансово-экономическая система на такое не рассчитана. Поэтому КНР не спешила делать резких движений. Хотя очевидно, что США со своими союзниками уже взяли курс на конфронтацию, и через критические минералы это прошло очень жирной «красной чертой».
Впрочем, определённая реакция Пекина на демарш коллективного Запада всё-таки последовала – с декабря 2023 года Китай ввёл запрет на экспорт технологий извлечения и разделения редкоземельных металлов, что, безусловно, повлекло за собой серьёзные геостратегические последствия. Конечно, некоторые фрагменты технологии переработки редкозёмов есть во многих других странах, но именно китайцы остаются единственными, кто имеет комплексные компетенции и реальный опыт их применения в работе со всеми 17 редкоземельными элементами.
Поэтому «критические» минералы превратились в «конфликтные». Кстати, такой термин был и раньше, правда, он касался лишь тех ресурсов, что добываются в зонах вооружённых конфликтов, например, в Африке. И этот момент, на самом деле, тоже никуда не делся, но к нему добавилось и новое значение – конфликт между двумя системами.
– Почему между двумя? А Россия?
– Россия, конечно, тоже является крупным производителем редкоземельных металлов и ряда других критических минералов, таких, как никель, медь, цинк и так далее. Однако Китай здесь всё же идёт впереди планеты всей. Поэтому сейчас на данном направлении именно КНР в первую очередь представляет опасность для США и их союзников.
.

.
Звенья в цепи
– Дело в том, что именно китайцы сегодня контролируют большинство производственно-технологических и логистических цепочек критических минералов. По существующим оценкам, на долю Китая приходится 36,7% всех запасов редкоземельных металлов на нашей планете (далее следуют Вьетнам – 18,3%, а также Россия и Бразилия – по 17,5%). При этом добыча редкозёмов непосредственно в Китае составляет 65% от общемировых объёмов, а переработка – порядка 85%. Напомню, что не так давно редкоземельные металлы, собственно, и были практически единственными критическими минералами. Да и сейчас продолжают оставаться их ядром, поскольку на них делается очень большой упор в рамках перспектив развития многих современных высокотехнологических производств.
Одновременно КНР контролирует существенную часть глобальных цепочек создания стоимости целого ряда и других важнейших элементов – от освоения месторождений (запасы, добыча руды, очистка, переработка, логистика) до производства и реализации конечной продукции – электрокаров, смартфонов, солнечных панелей и так далее. Так, Китай остаётся бесспорным лидером, а по некоторым позициям даже доминирует в переработке «критического» сырья, которое добывается как непосредственно в КНР, так и, допустим, в Юго-Восточной Азии (ЮВА). Например, в Поднебесной перерабатывается 68% мирового объёма никеля, 40% – меди, почти 60% лития и 73% кобальта. На основе этой переработки в стране налажено производство как промежуточных, так и конечных, готовых продуктов. В том числе китайцы выпускают 70% (от общемирового показателя) – катодов, 85% – анодов, 62% – электролитов.
.

.
– Как Китаю удалось добиться таких успехов?
– Благодаря грамотно выстроенной политике Пекина. Изначально речь шла главным образом о редкоземельных металлах – эту тему китайские власти всегда держали на контроле. Хотя в формировании этого сектора было задействовано очень много частных компаний, государство осуществляло его регулирование не только внутри страны, но и курировало экспортно-импортные направления. Причём, речь шла не только о налогах, пошлинах и экспортных квотах, но также об участии в разработке, получении и приобретении технологий. Так что это с самого начала не была чисто частная история.
Аналогичный подход впоследствии применялся и в отношении всех остальных критических минералов. На ранних этапах очень много технологий закупалось за рубежом. Затем было организовано масштабное финансирование собственных НИОКРов (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), разработок технологий и технических решений. На определённом этапе китайцы ввели запреты на участие зарубежных инвесторов в проектах по добыче отдельных критических минералов, взяв под полный контроль, как месторождения, так и сам процесс освоения соответствующих ресурсов. В то же время были созданы благоприятные условия для прямых иностранных инвестиций в переработку. Правда, при обязательном соблюдении требования по созданию для этого совместных предприятий (СП) с китайскими компаниями. Со временем в рамках же этих СП китайцы сумели полностью освоить новые технологии, в которых нуждались. Таким образом, в секторе критических минералов Китая появились собственные добывающий и перерабатывающий комплексы.
При этом в какой-то момент Пекин внёс некоторые важные коррективы в свою политику на данном направлении – добыча наиболее ценных ресурсов была ограничена, а переработка, напротив, кардинально расширена. Своё сырьё Китай решил, если и не законсервировать, то, как минимум, приберечь, а импортные закупки критических минералов стал стремительно наращивать. В итоге многие страны продают собственные ресурсы китайцам, а из Поднебесной затем получают продукты их переработки, например, или даже уже готовый конечный продукт. Если, конечно, поставщикам сырья интересно именно это.
Достаточно долгое время США и их союзники вполне успешно находили общий язык с КНР. Однако где-то с 2010-х годов периодически стали возникать проблемы. В частности, был довольно громкий конфликт, связанный с редкоземельными металлами, между Китаем и Японией. Китайцы уже тогда почти полностью контролировали всю производственную цепочку по редкозёмам. Поэтому, когда они ограничили свои поставки, это привело не только к резкому и стремительному росту мировых цен, но и в принципе поставило под большой вопрос реальность дальнейших перспектив развития высокотехнологических отраслей в странах коллективного Запада, которые опирались на импорт критических минералов из Китая.
К настоящему же моменту вес Поднебесной, причём, не только в этом секторе, стал настолько велик, что, за счёт своей, скажем так, мощной экономической гравитации, страна оказывает крайне сильное воздействие на равновесие и устойчивость всего мирового пространства. Не учитывать, а тем более игнорировать этот фактор уже не получится. Собственно поэтому дальнейшее развитие направления критических минералов сегодня и сводится, по сути, к борьбе двух полюсов – США и Китая. Причём, не столько в технологической или даже экономической сфере, сколько в области политики и, главным образом, геополитики.
.

.
А поскольку это относительно новая данность, сейчас она только начинает разворачиваться. И можно с большой долей вероятности ожидать, что пика наивысшей активности передел глобальных производственно-технологических и логистических цепочек критических минералов достигнет уже в самые ближайшие годы – до 2030-х годов, если не раньше. То есть, это сырьё станет играть не менее важное геополитическое значение для всего мира, чем, допустим, зерно и уголь в XIX веке или нефть и природный газ в веке ХХ. Со всеми вытекающими последствиями.
В этом контексте особое значение приобретают страны Юго-Восточной Азии, поскольку этот регион уже включён в цепочки по многим критическим минералам. И, судя по всему, уже в обозримой перспективе им неизбежно придётся принимать ту или иную сторону в назревающем глобальном конфликте.
.

.
Совместное вѝдение
– Страны ЮВА уже имеют какую-то чёткую стратегию относительно критических минералов?
– Общей стратегии, конечно, пока нет – каждое государство региона определяет и реализует свою собственную политику. Однако есть совместное вѝдение того, что и как может развиваться на данном направлении в принципе. В рамках межправительственной Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – АСЕАН.
Этой организацией был подготовлен документ, в котором рассматриваются возможные варианты регионального сотрудничества в области освоения полезных ископаемых на 2016-2025 годы и расставлены некоторые важные ориентиры. Интересно, что, когда он формировался, о таких понятиях, как критические, а тем более конфликтные минералы не было и речи. И даже в опубликованном в 2021-м промежуточном «отчёте о проделанной работе» («план» регионального взаимодействия в документе условно разделён на две фазы) ни о чём подобном тоже нет ни слова – в нём говорится просто о полезных ископаемых в целом. И, естественно, никакой политизации этого вопроса там нет.
Но в 2023-м вышло официальное дополнение: во-первых – с обновлёнными данными, во-вторых – в нём делается упор уже как раз на «критические минералы» и рассматривается вопрос о том, как именно они могут влиять на дальнейшее развитие региона.
Там же даётся и определение того, что, собственно, страны АСЕАН понимают под критическими минералами. К ним относят те полезные ископаемые, что служат сырьём, прежде всего, для высокотехнологичных отраслей, но при этом сложнодоступны или вообще недоступны для определённых государств. И если в этих условиях конкретная страна испытывает острую нужду в таких минералах, то именно для неё они и являются критическими. Причём, ключевым фактором критичности считается главным образом уязвимость цепочек поставок, понятное дело – импортных в основном, и связанные с этим риски.
Такое понимание, кстати, заимствовано у американцев и их союзников, таких, например, как страны ЕС или Япония. Ведь, они как раз и остаются крупнейшими импортёрами важных элементов, поскольку обладают наиболее развитыми высокотехнологичными отраслями. И именно для них уязвимость цепочек поставок – особо важный момент. Самим же государствам АСЕАН пока эти минералы, по сути, не нужны. Вернее нужны, но не более, чем в рамках наращивания объёмов экспорта за рубеж.
В то же время китайцам это сырьё крайне необходимо, так как оно требуется самому Китаю для дальнейшей переработки, производства промежуточных и конечных продуктов, а также использования последних внутри страны и отправки на экспорт уже готовых изделий.
.

.
– А почему импорт критических минералов так важен для коллективного Запада и того же Китая? Ведь, их значительные запасы есть и в США, и в Австралии, и в Канаде, и в Европе, да и в КНР?
– Запасы – есть, но с их широкомасштабным освоением – большие проблемы. Поэтому существующего производства собственного сырья в странах-потребителях критических минералов совершенно недостаточно. Как и объёмов его первичной переработки на территории перечисленных государств, за исключением, пожалуй, Китая.
Дело в том, что производственные процессы в этой сфере, связанные с добычей, очисткой и переработкой сырья, а также утилизацией отходов, связаны с повышенными экологическими рисками. А стремительное развитие данного сектора уже приводит к довольно ощутимым проблемам с окружающей средой. Ведь, очевидно, что те же китайцы совсем не просто так ограничили добычу критических минералов на своей территории – желание сохранить свои запасы стало лишь одной из причин. Как решать эту проблему – пока не очень понятно.
Между тем, совсем без рисков для экологии этим можно заниматься разве что в космосе. А пока туда не добрались, придётся двигаться в прежнем режиме, поскольку альтернатив этому просто нет. С одной стороны – проблемы с окружающей средой, с другой – перспективы дальнейшего развития цивилизации. Придётся выбирать. Явно, что пока выгоды сильно перевешивают возможные последствия, поэтому никто не может себе позволить от всего этого отказаться. Участники процесса воспринимают ситуацию как неизбежную данность, поэтому пока проблемы каждый будет решать самостоятельно, по мере их поступления и в меру своих сил.
Но вернёмся к странам Юго-Восточной Азии. ЮВА располагает запасами мирового уровня сразу по нескольким ключевым позициям критических минералов. В том числе – по никелю, олову, редкоземельным металлам и бокситам. Из важных элементов здесь ещё, пожалуй, следует обратить внимание на вольфрам и висмут. Но есть и другие. Впрочем, достаточно сказать, что в совокупности на долю государств АСЕАН приходится порядка 47% мировых запасов никеля, свыше 30% олова, более 22% бокситов и как минимум 20% редкоземельных металлов.При этом, как по перечисленным минералам, так и по многим другим, в регионе ещё далеко не все ресурсы разведаны, не говоря уже об их разработке. Например, сколь-либо достоверных данных о запасах одного из крупнейших в мире производителей редкозёмов – Мьянмы – до сих пор не существует.
Между тем, даже то, что уже есть, позволяет практически каждой из стран ЮВА достаточно активно двигаться вперёд и довольно успешно развиваться. Уже сейчас государства АСЕАН производят порядка 61% мировых объёмов никеля, около 41% олова, более 13% редкоземельных металлов, а также не менее 8% бокситов. Совокупные показатели производства растут, поступательно увеличивается и доля ЮВА в глобальной добыче и переработке критических минералов. Вместе с тем, в рамках этого сектора в регионе остаётся много крайне актуальных, но далёких от своего решения проблем.
.

.
Пожалуй, базовая и первостепенная из них – неустойчивость добычи. Суть в том, что своих добычных компаний в ЮВА очень немного. Соответственно нужно привлекать иностранных инвесторов. Но ситуация на мировом рынке критических минералов постоянно меняется. Плюс периодически вносятся какие-либо изменения в законодательство стран региона. Всё это приводит к нестабильности. Какие-то месторождения начинают разрабатывать, но затем, по тем или иным причинам, иностранные компании бросают это дело и уходят. На их место приходят другие. И так далее. Всё это тормозит развитие добывающей отрасли.
Вторая очень серьёзная проблема – нехватка знаний, технологий и перерабатывающих мощностей. И это, пожалуй, даже ещё более важный момент. Потому, что в итоге подавляющая часть сырья добывается и сразу отправляется на экспорт. В частности, в тот же Китай, как главный центр переработки критических минералов. А в самой ЮВА перерабатывается очень и очень немного.
В принципе, эта проблема понятна и отрефлексирована – прилагаются усилия по наращиванию перерабатывающих мощностей. Как и в целом по освоению недостающих технологий. Очень долгое время такими технологиями обладали только западные компании, но к настоящему времени, хоть это произошло и относительно недавно, их также освоили китайцы. Однако до ЮВА в этом плане дело пока практически так и не дошло. Есть, конечно, некоторые исключения, но они немногочисленны и общей картины не меняют.
Таким образом, хотя в странах АСЕАН есть запасы, добыча и какие-то элементы переработки, они включены в глобальные производственно-технологические и логистические цепочки критических минералов лишь частично. И это – самая слабая сторона данного промышленного сектора, поскольку участвующим в этом процессе государствам региона, так или иначе, приходится подстраиваться под тех, кто контролирует весь производственный цикл на многих направлениях. А это главным образом Китай, хотя и США при активной поддержке своих союзников к этому тоже настойчиво стремится.
Впрочем, в некоторых сегментах сектора критических минералов ЮВА всё-таки занимает довольно сильные позиции, позволяющие отдельным странам региона выделяться, причём не только на фоне своих соседей. Это, в частности, Индонезия и Филиппины, на долю которых приходится, например, почти половина глобальных запасов никеля и чуть ли не две трети его мирового производства.
Беседу вёл Денис Кириллов
Продолжение следует…