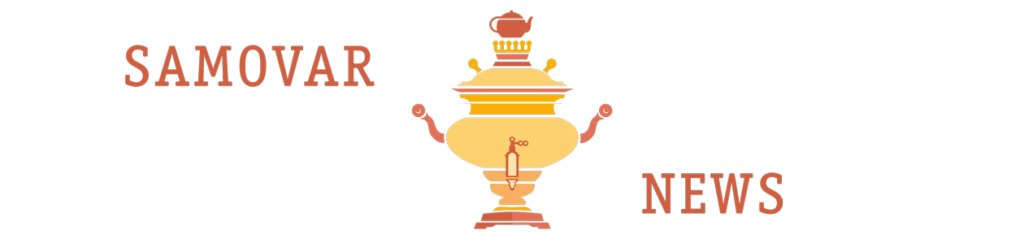Американские, европейские и российские исследователи о развитии мирового топливно-энергетического комплекса.
.

.
Уильям Энгдаль
В 2008 году американский аналитик Уильям Энгдаль выпустил книгу «Столетие войны: Англо-американская нефтяная политика и Новый мировой порядок». Вот что он в ней написал.
«В 2005 году Китайская национальная нефтяная корпорация участвовала в открытом конкурсе по приобретению калифорнийской частной нефтяной компании «Юнокал». Эта попытка была встречена отчаянными маневрами Белого дома в конгрессе, чтобы заблокировать сделку. В конце концов весьма благоприятное китайское предложение проиграло менее выгодному от компании «Шеврон Тексако», бывшей фирмы Конди Райс. Это не совсем понравилось Пекину. Автор популярной китайской книги «Китай может сказать нет!» Сонг Цян сказал, что опыт «Юнокал» подтвердил Пекину один из основных тезисов его работы; США не будут соблюдать «правила игры» в своих попытках «сдерживать» растущее влияние Китая.
В сентябре 2005 года заместитель госсекретаря США Роберт Зеллик сказал, что Китай вступит в «конфликт» с США, если он продолжит политику заключения энергетических сделок с «проблемными» странами, в которые входили Иран, Венесуэла и Судан. Зеллика поддержал бывший президент Клинтон, который в своей речи в китайском Гуаньчжоу заявил, что нехватка мировых нефтяных запасов «делает конфликт очень даже вероятным», особенно если Китай начнет скупать нефтяные месторождения по всему миру.
В докладе конгрессу Комиссия по безопасности в американо-китайских экономических отношениях заявила, что растущий спрос Китая на энергоносители представляет непосредственную угрозу для экономической безопасности США, назвав его стратегию приобретения акций месторождений нефти в «странах, представляющих интерес для Соединенных Штатов», «морально сомнительной».
Всё возрастающее отчаянное давление американской внешней политики вызывало к жизни невероятную «коалицию не желающих» по всей Евразии. Потенциал таких евразийских коопераций между Китаем, Казахстаном, Ираном достаточно реален и очевиден. Недостающим звеном, которое сможет сделать этот союз неуязвимым или почти неуязвимым к бряцанию оружием со стороны Вашингтона и НАТО, является военная безопасность. Только одна сила на земле имеет ядерный и военный потенциал и ноу-хау, чтобы заполнить это недостающее звено, – Россия Владимира Путина.
Серия профинансированных США «цветных революций» вокруг России, провокационное расширение НАТО на восток, приглашение России стать частью расширенного клуба «Группа восьми» – всё это было якобы по поводу обеспечения «демократии» и «свободного рынка» в бывших тоталитарных коммунистических режимах бывшего Советского Союза.
Более пристальное изучение показывает, что это не более чем пропагандистский фасад для легковерных. Ледяная геополитическая реальность вашингтонской политики с 1991 года заключалась в окружении России как единственной военной силы, способной конкурировать с абсолютным геополитическим доминированием США во всем мире.
Даже в хаосе разрушающейся советской экономики Россия сохранила ядро своего ядерного арсенала, основное средство сдерживания эпохи холодной войны.
Для Вашингтона нет другой более значимой цели, чем тотальное подавление России. Пока Россия сохраняет надежный ядерный потенциал, требуется строжайшая секретность вашингтонской конечной цели: полномасштабное доминирование, или, говоря более грубо, контроль над всей планетой».
.

.
Гусейнов и Денисов
В 2008 году коллектив российских авторов под руководством Сергея Караганова опубликовал масштабное исследование «Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет, которые могут всё изменить». В книге была глава, посвященная энергоресурсам. Ее написали Вагиф Гусейнов и Алексей Денисов. Приведу ряд фрагментов из нее.
«Месторождения, расположенные в непосредственной близости от развитых стран, где в 1970–1980-е годы под влиянием высоких цен начали добывать нефть, на грани исчерпания. Необходимы масштабные инвестиции в новые нефтеносные регионы Западной Африки, Центральной Азии, Каспия, России, которые смогли бы заместить выбывающие мощности. Основной проблемой Европейского союза является рост зависимости от импорта энергоносителей. К 2030 году импорт нефти в ЕС может вырасти с 76 до 90%, импорт газа – с 40 до 70%, угля – с 50 до более чем 70%.
Основные мировые углеводородные ресурсы находятся под контролем национальных государственных компаний. В свою очередь, перерабатывающие мощности, логистические и транспортные схемы, а также дистрибуция углеводородов контролируются транснациональными корпорациями. Перед государственными нефтекомпаниями встает вопрос о создании собственной транспортной инфраструктуры, которую контролируют преимущественно частные компании Запада.
К 2020 году доля традиционных энергоресурсов (нефть, газ и уголь) сохранится на уровне около 80% в совокупном общемировом потреблении первичных энергоносителей. Нефть обеспечит около 40% энергопотребления. За ней следуют природный газ (28%), уголь (20%), возобновляемые источники (7%) и ядерная энергия (5%). Рост возобновляемой энергетики не повлияет на базовые тенденции, по крайней мере в течение ближайших 15–25 лет.
Наиболее вероятно, что к 2030 году КНР сравняется с США по объемам импортируемой нефти. Лидером рынка СПГ до 2020 года останется Япония, затем на первое место по его потреблению выйдут США.
Европа и Китай останутся важнейшими стратегическими партнерами России. По крайней мере на ближайшие 20 лет Европа будет важнейшим рынком сбыта российских углеводородов. Доля Китая будет постепенно расти».
.

.
Национальный разведывательный совет США
В 2009 году Национальный разведывательный совет США опубликовал доклад «Мир после кризиса. Глобальные тенденции – 2025: меняющийся мир». Вот что там было написано об энергетической геополитике в 2025 году:
• Россия нуждается в природном газе Каспийского региона, чтобы удовлетворить выполнение европейских и иных контрактов, и, вероятно, будет весьма настойчиво стремиться удержать страны Центральной Азии в сфере влияния Москвы и в условиях отсутствия выходов на рынок, не контролируемых Россией, имеет хорошие шансы для того, чтобы успешно решать эту задачу.
• Китай будет продолжать стремиться использовать свою мощь на рынках, всячески культивируя политические взаимоотношения, направленные на обеспечение безопасного доступа к нефти и газу. Связи Пекина с Саудовской Аравией усилятся, поскольку это королевство – единственный поставщик, способный, по большому счету, дать положительный ответ относительно способности удовлетворить нефтяную жажду Китая.
• Пекин не хотел бы всецело полагаться на Рияд, усиливая связи с другими производителями. Иран будет расценивать эти стремления как возможность укрепить китайскую поддержку Тегерана, что, возможно, внесет напряженность в связи Пекина и Рияда. Тегеран также может оказаться в состоянии укрепить и сделать еще более тесными связи с Россией.
• Мы считаем, что Индия тоже будет стремиться вступить в борьбу для обеспечения доступа к энергии, заключая соглашения с Бирмой, Ираном и Центральной Азией. Нефтепроводы в Индию могут пройти по довольно беспокойным районам и вовлекут Нью-Дели в нестабильность в ряде ее регионов.
.

.
Дэниел Ергин
В 2012 году вышла книга знаменитого американского эксперта Дэниела Ергина «В поисках энергии». В ней он написал следующее.
«Рост потребления энергии в мире в ближайшие десятилетия будет весьма существенным. Прирост превысит всю энергию, использованную в мире в 1970 году, этот рост станет мерилом успеха – процветания мировой экономики, повышения уровня жизни, улучшения благосостояния миллиардов людей, прежде живших в бедности. По нефти Северная Америка, Европа и Япония уже достигли максимума потребления. Ввиду демографической ситуации, повышения энергоэффективности и перехода на другие энергоресурсы потребление нефти там не будет меняться или начнет снижаться. В развивающихся странах потребление энергоносителей сильно увеличится.
Обеспокоенность состоянием окружающей среды будет оказывать влияние на рынок энергоресурсов. Главный вопрос здесь – изменение климата и выбросы углекислого газа. Свыше 80% энергии в мире дают углеродсодержащие виды топлива. Через два десятилетия этот показатель, по прогнозам, будет составлять 75–80%. Рост значимости проблемы изменения климата позволяет надеяться, что в дальнейшем доля ископаемого топлива начнет снижаться благодаря политическим мерам и новым технологиям.
В транспортной сфере переход к более высокой энергоэффективности очевиден как в плане пробега на литр бензина, так и в плане распространения гибридной технологии. Присутствие биотоплива будет расти, но на существенную рыночную долю оно выйдет, скорее всего, только после появления биотоплива второго поколения. Природный газ, похоже, становится транспортным топливом. Что касается электромобиля, то пока рано давать прогнозы быстроты его проникновения в глобальный автомобильный парк.
На сегодняшний день ветровая и солнечная энергетика, значимые сами по себе секторы, все еще малы с точки зрения масштабов электроэнергетики. Им необходимо продемонстрировать свою способность обеспечивать стабильную выработку электроэнергии в больших масштабах и при низкой стоимости, хотя, возможно, общество решит, что оно готово покрывать дополнительные затраты при помощи дотаций или налогов на выбросы углекислого газа».
.

.
Мегатренды МГИМО
В 2013 году Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России выпустил книгу коллектива авторов «Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке» в которой была глава «Мировые энергетические тренды» (автор – к.э.н. И.Р. Томберг). Вот что в ней было написано.
«XXI век поставил человечество перед новыми вызовами, связанными с истощением природных ресурсов, прежде всего энергетических, и с обостряющейся год от года борьбой за углеводородные ресурсы планеты и природные ископаемые. Эти тенденции обострились в связи с событиями весны 2011 года. Нестабильность в Северной Африке и на Ближнем Востоке самым существенным образом угрожает энергобезопасности многих стран, прежде всего европейских. Государства, затронутые беспорядками, обеспечивают 30% европейского импорта газа. Нетто-экспорт нефти и нефтепродуктов из стран, в которых проходили волнения, равен 60% нетто-импорта ЕС. Последовавшее за этими событиями землетрясение, вызвавшее аварию на АЭС в Японии, внесло не менее значительные коррективы в энергетическую картину мира. Начался пересмотр энергетических политик многих стран, направленный на более осторожное развитие атомной энергетики, расширение использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), увеличение доли газа в энергобалансе. Для российского энергоэкспорта особое значение имеет произошедшая после глобального финансового кризиса переоценка приоритетов энергетической политики Европейского союза в отношении обеспечения безопасности импорта из разных регионов.
Мы являемся свидетелями революционных изменений в мировой энергетике. Причина этих процессов – отнюдь не развитие добычи сланцевых углеводородов. Речь идет о системных изменениях технологических основ современной энергетики. Эта часть мировой экономики стоит на пороге энергетической революции, в основе которой лежит начавшийся переход от индустриальной энергетики к постиндустриальной. Если индустриальная энергетика базировалась на сжигании ископаемого топлива, транспортируемого на большие расстояния, на потреблении больших объемов энергии, то энергетика постиндустриальная основана на энергии возобновляемых источников энергии (атомной), децентрализации источников и потребителей, эффективном использовании сравнительно небольших потоков энергии. Основные направления энергетической революции – повсеместное распространение технологий энергосбережения, интеграция энергетики в техносферу, распространение ВИЭ, децентрализация энергетики, создание «умных сетей» и энергоинформационных систем, появление таких проектов, как «энергоэффективный дом» и «энергоэффективный город».
Современное развитие мировой энергетики происходит, таким образом, под влиянием двух процессов – быстрого роста индустриальной энергетики (и потребления ископаемого топлива) в развивающихся странах и постепенного перехода развитых стран к постиндустриальной энергетике. Одним из ключевых в развитии энергетики является экологический фактор. В рамках международных экологических соглашений (Киотский протокол и посткиотские договоренности), национального экологического законодательства создаются правовые и экономические механизмы, направленные главным образом на стимулирование процесса перехода к энергетике нового типа.
До 2035 года азиатские страны обеспечат 65% прироста мирового спроса на все первичные энергетические ресурсы (ПЭР), причем Китай и Индия – свыше половины. В развивающихся странах в целом за 2000-е годы потребление энергии выросло на 66%, в то время как в развитых странах – только на 5%.
Общая оценка государств-потребителей сводится к тому, что газ является топливом, доминирующим лишь в период перехода к «возобновляемому» энергобалансу, поскольку с технологической точки зрения является идеальным балансиром для альтернативных источников энергии. По оценкам российских экспертов, газ должен стать доминирующим топливом в энергетике в следующем инвестиционном цикле как наиболее дешевый и доступный ресурс. Газовая генерация становится новым лидером энергетики – выигрывает в конкуренции с другими источниками (атомной, угольной, ВИЭ) как наиболее дешевый ресурс, эффективный и гибкий с технологической точки зрения. Газовая генерация сейчас выгоднее по цене, чем угольная, атомная и возобновляемая в основных мировых центрах рынков: ЕС, США и Китае, где традиционно уголь считался наиболее выгодным энергоресурсом. Газовое топливо может заменить значительную часть нефти в транспортном секторе. За последнее десятилетие число транспортных средств на газе в мире выросло с 1,3 млн до 11,4 млн, а число стран, использующих сжиженный газ в транспортном секторе, удвоилось.
Наиболее заметным признаком постиндустриального развития стало бурное развитие возобновляемой энергетики (ВЭ – приливная, геотермальная, солнечная, ветряная, гидроэнергетика). Возобновляемая энергетика с ее инновационными технологиями превратилась в одну из наиболее мощно развиваемых отраслей мировой экономики.
Говоря о будущем развитии энергетики, стоит упомянуть, что Европа готова избрать путь развития, основанный на ВИЭ и на иной, чем сейчас, архитектуре энергосистем. Так, согласно последнему стратегическому сценарию Еврокомиссии – «Дорожной карте по энергетике до 2050 года» – доля ВИЭ в конечном потреблении к 2050 году определена на уровне 75%, а в электрогенерации – 97%.
Сроки окупаемости проектов ВИЭ лежат за пределами любых экономических циклов (составляют около 30 лет по разным видам генерации, хотя быстро сокращаются). Поэтому вложения в ВИЭ являются инвестициями в будущее, соответственно, могут быть произведены преимущественно за счет государства.
В странах, являющихся импортерами ресурсов, паритет возобновляемой и традиционной генерации может быть достигнут в течение ближайших 10 лет или, скорее, в случае изменения экологического законодательства. Государства, обладающие доступными и относительно дешевыми традиционными ресурсами, в числе которых Россия, в ближайшие 10–15 лет вряд ли смогут достигнуть такого паритета.
Так называемый сланцевый бум является наиболее заметным следствием сдвигов в технологических основах мировой энергетики. В 2009 году США вышли на первое место в мире по добыче газа, которое удерживают и поныне. В США возник переизбыток газа, а обвалившиеся цены на него изменили структуру топливного баланса. Более дешевое и экологичное топливо стало широко использоваться в электрогенерации, вытесняя из этого сектора местный уголь.
Резкий рост конкуренции на европейском рынке требует кардинального изменения экспортной стратегии России, а именно – перехода от борьбы за финансовый результат, то есть максимальную прибыль, к более гибкой стратегии поведения, ставящей во главу угла удержание имеющихся рынков и выход на новые. В первую очередь это касается расширения экспорта энергоносителей в страны Азии, прежде всего в Китай. Необходимо перенести стратегическое партнерство в сферу энергетики.
В сфере добычи и экспорта нефти мир сталкивается с рисками снижения ее добычи как по причине истощения имеющихся месторождений, так и в связи с вводом новых, более сложных и дорогостоящих в освоении месторождений. В этих условиях задача освоения огромных месторождений сланцевой нефти выглядит вполне актуальной. У России есть все шансы выйти по объемам добываемой сланцевой нефти на второе место в мире. Импорт технологий и улучшение налогового режима могут позволить России довести к 2030 году добычу до 1,4 млн барр. сланцевой нефти в день. Эти прогнозы связаны с освоением месторождений Баженовской свиты в Западной Сибири – одного из крупнейших в мире месторождений сланцевой нефти».
.

.
Мэтью Барроуз
В 2014 году американский исследователь Мэтью Барроуз опубликовал свою книгу «Будущее: рассекречено. Каким будет мир в 2030 году». Вот что он написал об энергетическом секторе.
За последние несколько лет комбинированные технологии фрекинга и горизонтального бурения стали переломным фактором для энергетики США и других стран с обширными сланцевыми месторождениями нефти и газа. Самообеспеченность энергоресурсами – для США задача вполне выполнимая в ближайшие 10–20 лет. У страны более чем достаточно природного газа, чтобы покрыть внутренние потребности в нем на многие десятилетия вперед, а также обеспечить экспорт в мировом масштабе. Несколько лет назад Европа казалась полностью зависимой от российских энергоносителей, но растущая энергетическая независимость США и Канады означает всё большее количество нефти и газа на рынке, увеличивает количество источников энергоносителей для Европы.
Крупнейшим препятствием для максимально масштабного поиска месторождений как в Северной Америке, так и во всем мире стало отрицательное воздействие на окружающую среду. Некачественное строительство скважин и цементирование, управление сточными водами и другие наземные риски будут по-прежнему приводить к авариям. Увеличение сейсмической активности в зоне разрабатываемых месторождений привлекло внимание общественности к возможным рискам. Она может заметно сказываться на целостности скважин, увеличивая риски загрязнения запасов питьевой воды метаном.
Перспективы масштабных и более дешевых источников природного газа, который к 2030 году мог бы заменить уголь, имеет несомненные преимущества: например, снижение выбросов углекислого газа в атмосферу.
.

.
Сергей Правосудов
В начале 2017 года вышла моя книга «Нефть и газ: деньги и власть». В ней я писал следующее:
«В настоящее время мир находится в стадии глобального кризиса. Страны Запада во главе с США пытаются отстоять свое доминирование, но получается у них это не очень, так как экономики стран Азии растут весьма динамичными темпами. При этом государственный долг многих западных стран (в том числе и США) уже превысил 100% их ВВП. Спасти американцев может только погружение Китая в хаос и стремительное перекачивание средств из КНР в США. Похожую услугу им в 1990-е годы оказали страны бывшего СССР. В случае если Китай продолжит набирать силу, а Россия будет и дальше развивать сотрудничество с КНР, международная напряженность будет нарастать.
На нефтяном рынке наблюдается тенденция на рост запасов. Однако эти запасы становится всё труднее извлекать. Речь идет о месторождениях глубоководного шельфа, сланцевой нефти, битуминозных песках. Следовательно, себестоимость этой «новой» нефти не может быть низкой. Зачастую и качество трудноизвлекаемой нефти оставляет желать лучшего, фактически она представляет собой природный битум, из которого сложно получить высокооктановый бензин.
Большие запасы легкодоступной нефти есть на Ближнем Востоке, но здесь наблюдается военное противостояние Саудовской Аравии и Ирана. Правда, воюют они не напрямую, а опосредованно в Йемене, Сирии и Ираке. В этих условиях Россия является одним из самых стабильных поставщиков нефти в Европу и Азию. Именно поэтому КНР неуклонно наращивает закупки российской нефти. Ожидается, что в ближайшие годы существенное увеличение потребления нефти произойдет в Индии. Россия реализует ряд совместных проектов и с этой страной.
Мировое потребление газа растет быстрее, чем нефти. Для России это весьма благоприятно, так как наша страна является мировым лидером по запасам природного газа. США пытаются добиться от ЕС сокращения закупок российского газа, но они продолжают расти. Другим поставщикам не удается потеснить «Газпром» на европейском рынке. В 2019 году должны начаться поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В дальнейшем они будут постепенно нарастать.
Однако России необходимо уделять больше внимания проектам по переработке углеводородного сырья. Движение в этом направлении идет, но не такое быстрое, как хотелось бы. Главное для нашей страны – сохранить свой суверенитет, чтобы мы отстаивали свои национальные интересы, а не превратились в послушных исполнителей воли зарубежных хозяев.
Что касается альтернативных источников энергии, то пока все они отстают по эффективности от традиционных. Существует прямая зависимость: чем большую долю в энергобалансе той или иной страны занимают возобновляемые источники энергии, тем дороже здесь стоит электроэнергия. Электромобили пока также проигрывают по всем основным характеристикам традиционным машинам».
.

.
В 2017 году на русском языке вышла книга американского эксперта Тейна Густафсона «Колесо Фортуны: Битва за нефть и власть в России». Приведу ряд фрагментов из нее.
«19 июня 2014 года цена нефти марки Brent подскочила до $115 за баррель, а к концу декабря опустилась до $57,5. Падение продолжилось и в 2015 году. На снижение нефтяных цен наложились международные санкции в отношении России со стороны США, Евросоюза и ряда других стран, введенные вследствие конфликта на Украине. Санкции были двух видов. Первые были направлены на технологии, связанные с глубоководной шельфовой разведкой и добычей, а также с добычей сланцевой нефти. Вторым видом санкций был всесторонний запрет любого кредитования компаний, которые считались тесно связанными с Кремлем.
Финансовые санкции ограничили возможности российских нефтедобытчиков на международных рынках капитала. А поскольку рост добычи ранее удавалось поддерживать только за счет неуклонно возраставших инвестиций, избежать спада будет нелегко.
История мировой нефтяной промышленности последних двух десятилетий говорит о ее значимости как высокотехнологичной отрасли. Последний и весьма наглядный пример тому – достижения в добыче сланцевого газа и трудноизвлекаемой нефти, придавшие второе дыхание нефтегазовой отрасли США. Россия обладает не меньшим потенциалом для подобного возрождения в самом сердце бывшей советской нефтегазовой промышленности – Волго-Уральском регионе и Западной Сибири.
Перед российской нефтегазовой отраслью стоит задача вновь стать промышленностью инновационных технологий, источником созданного, а не унаследованного богатства, мощным стимулом инноваций и предпринимательства для экономики всей страны. Один из важных движителей прогресса – развитие инновационных кластеров, то есть мест, где научные и технические инновации, предпринимательство и финансы взаимодействуют, подпитывая и взращивая друг друга. Идея кластеров прижилась в среде российских модернизаторов и даже привела к проекту создания собственной «Кремниевой долины» в подмосковном Сколково. Перспективные российские кластеры могут возникнуть в таких нефтяных центрах, как Тюмень, Альметьевск, Томск и Мурманск».
.

.
Гривач и Симонов
В 2019 году Алексей Гривач и Константин Симонов опубликовали книгу «Великая газовая игра: полвека борьбы США против Европы». Приведу заключительный фрагмент этой работы.
«Россия и Европа зависят друг от друга во многих областях. Однако только в газовой сфере (через разветвленную сеть трубопроводов большого диаметра) эта связь установлена на физическом уровне. В нынешнем, всё более виртуальном, мире такая «жесткая сцепка» приобретает особенную ценность. И если сейчас политики под давлением извне готовы вводить санкции вопреки интересам собственных стран – как говорится, стрелять себе в ногу, – то перерезать артерии они не смогут.
По данным Евростата, в 2016 году доля газа в энергетике Евросоюза составила более 23%, а доля поставок из России в газовом балансе превысила 34%. Еще в 2010 году соотношение было принципиально иным – 25% и 23% соответственно. И столь беспрецедентный рост потребности европейцев в российском газе пришелся на период ухудшения политических отношений между Россией и Западом, введения незаконных и бессмысленных санкций против нашей страны и весьма открытой антигазпромовской энергетической политики Брюсселя.
За это время в Европе случилось несколько достаточно холодных зим, когда доля газа в континентальном энергобалансе резко возрастала и применение «газового оружия», если бы такая возможность рассматривалась в принципе, могло оказаться максимально болезненным. Но, как и в советские времена, контрактные обязательства исполнялись в полном объеме, развенчивая миф об опасности российского газа для Евросоюза.
Наоборот, в 2017 году у европейцев появилась лишняя возможность убедиться, чьи намерения носят, мягко говоря, не вполне добросовестный характер. Американский конгресс рассматривал законопроект о введении санкций против всех участников и партнеров российских проектов по строительству трубопроводов. Контракты крупнейших европейских энергетических компаний, а также производителей трубоукладчиков, труб и другого оборудования оказались под угрозой. Всё как в старые добрые 1980-е, когда Рейган пытался остановить строительство газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. Только теперь целью стала остановка проекта «Северный поток – 2», в том числе для создания конкурентных преимуществ экспорту в Европу сжиженного газа из США.
Парадокс же ситуации заключается в том, что искусственное вытеснение более дешевого и надежного российского газа приведет лишь к дефициту энергоресурсов и росту цен в Европе. То есть к снижению глобальной конкурентоспособности экономики ЕС и ухудшению стандартов жизни. Политики 1980-х это прекрасно понимали и уже тогда сделали выбор в пользу мирного газа из Западной Сибири – несмотря на мифы об «энергозависимости» и «газовом оружии», которые сегодня вновь взяты на вооружение американской элитой и их сателлитами в Европе».
.

.
Карин Кнайсль
В 2024 году вышла книга австрийской исследовательницы Карин Кнайсль «Реквием по Европе». Вот что она пишет.
«Возобновляемые источники энергии, субсидируемые государством, не могут производить электроэнергию по ценам, позволяющим промышленным предприятиям конкурировать на мировом рынке. В последние годы немецкие малые и средние фирмы уже платят за электроэнергию в два раза больше, чем их французские конкуренты. Весной 2021 года кризис на рынке электроэнергии, а также на рынке нефти и газа стал совершенно очевидным. Причиной тому были масштабные инвестиционные пробелы в поисках новых источников энергии, структура рынка, искаженная в результате различных «зеленых» сделок, и неудачная либерализация. В Германии вообще нет никаких признаков инноваций. Напротив, бюрократия, требования по защите климата и катастрофически низкий уровень образования – всё это было еще до того, как начался нынешний кризис, вызванный собственными силами с помощью санкций и морализаторства.
Множество директив, связанных с «зеленым курсом» на достижение целевых показателей выбросов, усложняют ведение бизнеса. В ответ европейские фермеры с лета 2023 года репетируют восстание. Вопрос в том, сможет ли ЕС и дальше душить предписаниями и недофинансировать наднациональную сферу общего сельского хозяйства. Вскоре могут вновь появиться плакаты со словами «Хлеб вместо оружия», как это было во время Первой мировой войны».