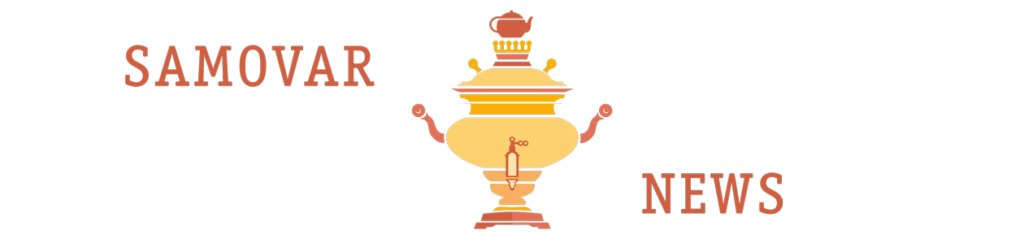.

.
Нефтегазовый сектор
– Что представляет собой мьянманский нефтегазовый сектор?
– Мьянманская нефтяная отрасль – одна из старейших в мире. Напомню, что первые поставки сырой нефти из Бирмы на экспорт датируются 1853 годом. Занимались этим делом, понятное дело, британцы. Хотя нефтедобыча в Бирме появилась задолго до колонизации страны – сотни вырытых вручную нефтяных скважин находились в собственности нескольких десятков бирманских семей и передавались по наследству. Так что британские завоеватели пришли как бы «на всё готовое», получив контроль над нефтедобывающей промышленностью, созданной бирманцами и действовавшей уже в XVIII веке.
До начала ХХ века фактически монопольное положение в Бирме занимала крупнейшая нефтяная компания Британской империи Burmah Oil, пока свою деятельность в стране не начала американская Standard Oil. И вплоть до оккупации Бирмы японцами в период Второй мировой войны страна оставалась одним из достаточно крупных производителей и экспортёров нефти. Англосаксы довольно жадно осваивали бирманские ресурсы углеводородов, поэтому периодически вставал вопрос об истощении разведанных запасов. А когда в начале 1942 года вторгшиеся в Бирму японские войска угрожали прорваться к действовавшим в стране нефтяным промыслам, англичане и американцы применили тактику «выжженной земли». Сделав всё, чтобы полностью уничтожить не только имевшиеся запасы сырья и топлива, но также все объекты нефтяной отрасли и связанной с ней инфраструктуры. Без возможности их восстановления. После снятия японской оккупации англосаксы вернулись в нефтяную отрасль Бирмы, однако полностью её реанимировать, по понятным причинам, так и не смогли. Впрочем, возможно не захотели или даже просто не успели.
Напомню, что в 1963 году правительство генерала У Не Вина национализировало весь бирманский топливно-энергетический сектор в соответствии с принятой программой социалистических реформ, вследствие которых в стране случился застой на десятилетия. В том числе и в нефтяном секторе. Экспорт сырья полноценно развивать было невозможно по причине введённых против Бирмы санкций. Перенаправить потоки на внутреннее потребление – тоже, поскольку таких потребностей в стране просто не было. Мало того, падение экономики и, как результат, благосостояния населения потянуло за собой и стремительное сокращение внутреннего спроса.
После смены власти, с 1989 года Мьянма вновь начала открываться для прямых внешних инвестиций. К тому времени транснациональные корпорации интересовали уже не только ресурсы нефти, но и природного газа. И в 1991-м одной из первых западных компаний, повторно пришедших в Мьянму, стала англо-голландская Royal Dutch Shell. Тогда она обнаружила крупное газовое месторождение Apyauk. Вслед за Shell пришли французская Total и американская Unocal (дочерняя структура Chevron) – вместе они начали разработку ещё одного мьянманского газового месторождения – Yadana – на шельфе Андаманского моря.
Изначально в мьянманские нефтегазовые проекты пришли и другие американские компании, однако уже в 1997 году почти все из них свернули свою деятельность в Мьянме, после того, как США и Европа ввели против страны очередные санкции. Правда, Total и Unocal в Мьянме остались. И в 1998-м на месторождении Yadana началась коммерческая добыча.
Далее за крупными игроками подтянулись региональные азиатские компании. В частности, южнокорейские, малазийская Petronas и тайская PTT Exploration and Production (PTTEP). Кстати, как раз тогда тайцы и начали выстраивать стратегию по обеспечению себя мьянманскими углеводородами – как правило, они входят в консорциумы с более крупными игроками.
В общей сложности в разработку тогда было введено четыре крупных месторождения углеводородов, с которых бюджет Мьянмы до сих пор получает основные доходы и, в частности, валютную выручку. Углеводороды всегда оставались важной частью мьянманского экспорта, несмотря на все ограничения – находились обходные пути, финансирование шло по серым схемам, в том числе и через Сингапур.
.

.
С началом в 2011 году процесса либерализации Мьянмы иностранные компании, в первую очередь западные, вступили в борьбу за добычу газа на глубоководных месторождениях, которые раньше не разрабатывались. Однако крупных открытий на шельфе страны так и не было сделано. Между тем, и уже существующие разведанные запасы углеводородов стали стремительно истощаться. Причём, произошло это гораздо раньше, чем ожидалось. За этим последовало и падение добычи. Так, по данным BP Statistical Review of World Energy, в 2010 году производство природного газа в Мьянме составляло чуть больше 12 млрд куб. м, в 2015-м был пик – 19,2 млрд, а уже к 2020-му добыча сократилась до 17,5 млрд.
Итак, пять лет западные корпорации старались восполнить истощение «своих» ресурсов углеводородов в Мьянме, но попытки найти глубоководные запасы не увенчались успехом. И уже к 2018 году иностранные компании, такие, например, как Shell, Statoil и Oil India, начали выходить из мьянманских проектов. Что, в принципе, вполне понятно. Несмотря на то, что самостоятельно мьянманцы просто не в состоянии полноценно развивать свой энергетический сектор, условия для привлечения в него зарубежных инвесторов оставляли желать лучшего. Допустим, как и во многих других странах, Мьянма в обязательном порядке участвовала в консорциумах по разработке нефтегазовых месторождений посредством основанной в 1963 году государственной компанией Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE). Однако по контрактам, заключавшимся в период либерализации с мьянманским правительством, с началом добычи иностранные инвесторы получали лишь около 20% производимого сырья. Для сравнения: в Индонезии, например, соответствующая доля зарубежных компаний оставалась на уровне примерно в 60%.
Как нетрудно догадаться, после февраля 2021 года ситуация в нефтегазовом секторе Мьянмы лишь усугубилась. Коллективный Запад, понимая, что нефть и газ – это один из ключевых источников дохода для нынешнего военного правительства страны, активно вводит санкции. И давит, как на западные компании, так и опосредованно – на азиатские. Впрочем, ситуация из-за этого получается довольно своеобразная.
В действительности западные корпорации никогда не спешили выходить из мьянманских проектов, и в подавляющем большинстве случаев просто вынуждены были это делать. Но выход этот обычно происходит через перераспределение долей. То есть на место западных компаний приходят другие – тайские, например. Так, в марте 2022 года французская Total вышла из проекта разработки одного из крупнейших мьянманских месторождений – Yadana. Её долю получила тайская группа PTT (Po To Tho), которая уже участвовала в разработке ряда газовых месторождений в Мьянме. Соответственно, добываемый газ поставляется в Таиланд. Мотивируют такую свою политику тайцы тем, что для них это вопрос энергетической безопасности. И поддаваться давлению Запада они явно не хотят. Хотя Запад всё равно давит.
.

.
НПЗ, «самовары» и серые схемы
– Давит успешно?
– По-разному. Поскольку тайские, да и вообще азиатские корпорации находятся в плотном взаимодействии с Западом, и по большому счёту во многом зависят от западного финансирования, они вынуждены лавировать, дабы не лишиться источников инвестиций. Иногда у них получается, иногда нет. Так, у той же PTT есть в Мьянме проекты по транспортировке и хранению нефти. В частности, её дочерняя структура PTT Oil and Retail (PTTOR) владеет долей в 35% акций Bright Energy – это совместное предприятие, созданное в 2019 году с подразделением мьянманского конгломерата Kanbawza Group. Bright Energy строила нефтехранилище недалеко от Янгона, которое должно было стать самым крупным в Мьянме. Но PTT была вынуждена приостановить развитие своего мьянманского направления транспортировки и хранения нефти, поскольку норвежский «Государственный пенсионный фонд – Глобальный» (также известный как «Нефтяной фонд»), исключил тайцев из своего портфеля, мотивируя это защитой демократических ценностей. Напомню, этот «Нефтяной фонд» был создан ещё в 1990 году с целью использования избыточных доходов норвежского нефтегазового сектора для инвестирования в перспективные проекты по всему миру.
– Кстати, а что сейчас происходит с мьянманской нефтяной отраслью?
– Базовая для региона проблема – нефти достаточно, но сильно не хватает собственных перерабатывающих мощностей.
.

.
На данный момент в стране есть два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ). НПЗ №1 в Янгоне был построен в 1955 году, НПЗ №2 в Магуэ – в 1954-м. Первый из них сейчас не работает, а власти пытаются разобраться можно ли его как-то реанимировать. Действующий завод перерабатывает порядка 6 тыс. баррелей сырой нефти в день, чего совершенно недостаточно для Мьянмы. И страна вынуждена импортировать нефтепродукты.
В 2020 году, когда просматривалась возможность расширения иностранных инвестиций, минэнерго Мьянмы серьёзно планировало строительство в стране нового НПЗ. Реализовывать проект предполагалось на условиях частно-государственного партнёрства. Нефтепродукты с нового предприятия должны были направляться в первую очередь на удовлетворение растущего внутреннего спроса. Наиболее вероятным проектом представлялось строительство НПЗ мощностью порядка 5 млн т сырой нефти в год в Магуэ. Едва ли руководство Мьянмы отказалось от этих планов, но после февраля 2021 года сложно сказать в каком состоянии находится этот проект сегодня.
Поскольку действующий НПЗ потребностей страны не удовлетворяет, в Мьянме очень распространены так называемые «самовары» – мелкие кустарные нефтеперегонные производства, как правило, нелегальные. С их помощью население пытается самостоятельно компенсировать нехватку топлива. Обычно «самовары» действуют в непосредственной близости от источников сырья – промыслов нефти, которая также добывается кустарным способом. Довольно крупные подобные «нефтяные поля» находятся, в частности, в округе Магуэ. На самом деле они были переданы местным жителям, после того, как нефтедобывающие компании оттуда ушли. Мьянманские власти пытались запретить эту деятельность, и прекратить её, по крайней мере, частично, поскольку те самые «городские партизаны» («Силы национальной обороны»), о которых шла речь, начали собирать с этого бизнеса «налоги», заниматься рэкетом и рейдерством. А полученные средства шли на финансирование террористической деятельности. Однако борьба с «самоварами» не решила проблемы с «Силами национальной обороны», а лишь привела к усугублению в стране дефицита нефтепродуктов.
Справиться с дефицитом топлива за счёт наращивания импорта Мьянма пока не в состоянии, тем более, что в нынешней ситуации закупки идут по серым схемам. Понятно, что точных данных не найти, но ещё в 2018 году американская Fitch Solutions утверждала, что страна потратила на такой импорт порядка 4 млрд долларов. На тот момент это был самый высокий показатель за всю историю Мьянмы. Впрочем, нужно отметить, что спрос на нефтепродукты на внутреннем рынке страны поступательно растёт.
.

.
Кстати, в последнее время на мьянманском нефтяном рынке происходят достаточно интересные изменения. Появилась информация, что ещё с лета 2022 года власти страны занялись переговорами о закупках на рынке российского топлива. С использованием всё тех же серых схем, которыми Мьянма традиционно пользуется уже как минимум десятилетие, где финансовым хабом традиционно выступает Сингапур. При этом мьянманцев совершенно не смущают всевозможные санкции, ни в отношении себя, ни против России.
Ещё интересный момент – российская нефть транспортируется на НПЗ в Куньмине в китайской провинции Юньнань как раз через Мьянму. Сырьё приходит в мьянманский порт Чаупхью в штате Ракхайн, откуда китайцы проложили нефтепроводы до своего завода протяженностью 770 км. Не исключено, что часть нефти или продуктов её переработки (уже с китайского НПЗ) поступает в Мьянму. В прошлом году поставки сырой нефти из России в Китай по этому направлению оценивались в пределах 70 тыс. баррелей в сутки.
Важный факт – Мьянма расплачивается с Россией за поставки нефти и нефтепродуктов в основном в юанях. Были даже переговоры о возможности расчетов в национальных валютах – никто, в принципе, не против, но нужно выстраивать новые механизмы по взаиморасчетам, что в нынешних условиях непросто и небыстро.
– Самостоятельно Мьянма экспортирует свою нефть в Китай?
– Безусловно. Китай и Таиланд – ключевые покупатели мьянманских углеводородов. Но узнать точные цифры – нереально, поскольку тогда сразу станет понятно сколько на этом зарабатывает правительство Мьянмы, а исходя из этого против страны придумают новые санкции. А этого мьянманские власти не готовы допустить.
.

.
Энергобаланс
– Таким образом, если подвести итог по ситуации в нефтегазовом секторе страны, сегодня Мьянма остаётся далеко не последним в Азии производителем углеводородов. В то же время страна испытывает серьёзные проблемы, в числе которых отсутствие собственной технической и технологической базы, своих квалифицированных кадров, финансовых ресурсов. Для самостоятельного полноценного развития нефтегазовой отрасли нет возможностей. Хотя есть и разведанные запасы, и потенциал их наращивания.
Отрицательный политический фон не позволяет решить эту проблему и за счёт привлечения иностранных инвестиций. Между тем, в периоды либерализации очень многие пытались вкладываться в Мьянму, понимая, что «низкий старт» сулит отличные перспективы. Например, именно нефтегазовая промышленность привлекла в 2015-2016 годах самые большие объёмы прямых иностранных инвестиций вообще за всю историю Мьянмы – по разным оценкам, порядка 5-8 млрд долларов.
Что будет дальше, во многом зависит от того, какие будут приняты решения новыми мьянманскими властями. Но это будет, скорее всего, уже после следующих выборов.
.

.
– Что сегодня представляет собой мьянманский энергетический баланс в целом? Будет ли он меняться?
– Отталкиваясь от имеющихся более-менее адекватных данных, общая установленная мощность элетрогенерации Мьянмы по состоянию на май 2020 года составляла 6034 МВт. Из них в пределах 54% – гидроэнергетика. На втором месте – природный газ (около 40%). Уголь и дизельное топливо – примерно по 2%. Солнечная энергетика – на уровне 1%.
Основа энергобаланса Мьянмы, что очевидно, гидроэнергетика и газ. Но буквально за две недели до событий февраля 2021 года мьянманские власти обнародовали планы по серьёзному переформатированию энергетического баланса страны. Общую установленную мощность предполагалось увеличить примерно на треть. При этом предполагалось довести долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 54%, в том числе на гидроэнергетику должно прийтись до 40%, а ещё 14% – на солнечные электростанции. Долю газа собирались довести до 45%, включая сетевой газ – 34% и 11% – сжиженный природный газ (СПГ).
В принципе, всё это вполне достижимо, поскольку ресурсы для этого есть. Тем более, если будет дополнительный интерес извне. Уже сегодня Мьянма входит в пятёрку ключевых экспортёров энергоресурсов в ЮВА и является вторым по величине поставщиком в регионе природного газа после Индонезии. Сейчас покупателями мьянманского газа выступают в основном Китай, а также Таиланд, закупающий порядка 15% всех экспортируемых объёмов. Наблюдается и интерес к мьянманским запасам нефти и угля, хотя и в гораздо меньшей степени. Например, КНР давно проявляет заинтересованность в разработке угольных ресурсов соседней страны.
Достаточно велик и потенциал потребления энергии и внутри Мьянмы. Её перманентная изоляция привела к тому, что она остаётся страной с одним из самых низких уровней электрификации и, соответственно, показателей потребления электроэнергии на душу населения в ЮВА. По существующим оценкам, где-то 65% мьянманского населения не подключено к централизованной системе электроснабжения. Есть обособленные электрогенераторы, но это отдельная история. Между тем, спрос на электроэнергию в Мьянме довольно заметно растёт, особенно в последнее десятилетие. Как следствие, в стране достаточно распространена практика отключения электричества. Мьянманские власти стараются эту проблему решить и даже в крупных городах, таких как Янгон, к 2018-2019 годам этого почти удалось добиться. Но после февраля 2021-го ситуация резко откатилась назад.
До этого планировалось достижение 100-процентной электрификации Мьянмы к 2030 году. При этом уже к 2025-му предполагалось довести уровень электрогенерации из ВИЭ до 12-14% от общего объёма производства, главным образом за счёт солнечных электростанций (СЭС).
Кстати, свою первую СЭС Мьянма открыла в ноябре 2018 года. Запускали её с расчётом, что на первом этапе она будет давать 50 МВт, а впоследствии выйдет на 170 МВт. На какой стадии находится этот проект сейчас выснить невозможно.
В 2020 году минэнерго Мьянмы опубликовало приглашение для иностранных инвесторов на участие в конкурсе по строительству ещё нескольких СЭС в различных регионах страны общей мощностью в 60 МВт. Тогда практически ко всем этим проектам живой интерес проявили китайцы. Но, опять же, после февраля 2021-го всё это подвисло.
Очевидно, что, если теперь реализовать все обозначенные планы и получится, то сделать это будет очень непросто, поскольку перспективы развития альтернативной энергетики напрямую связаны с желанием и возможностями внешних игроков. А это, в свою очередь, зависит от того, насколько Мьянма будет открыта для мира. Или же – согласятся ли такие государства, как, допустим, Россия и Китай, развивать сотрудничество с мьянманцами в условиях всех действующих сегодня ограничений.
.

.
Также в связи с перспективами энергетического развития Мьянмы, следует упомянуть существующие планы по развитию в стране атомной энергетики. В разное время, дабы обеспечить растущий спрос на электроэнергию, Мьянма вела переговоры о возможности строительства атомных электростанций (АЭС) на своей территории с компаниями различных стран. Но после февраля 2021 года многие потенциальные участники соответствующих проектов отпали сами собой. В результате не так давно Мьянма подписала межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве в области использования атомной энергии. Обсуждался и конкретный проект – строительство АЭМ малой мощности (до 300 МВт). В сентябре 2022-го Росатом подписал дорожную карту о сотрудничестве с Мьянмой на 2022-2023 годы, после чего начались предметные переговоры. Шансы воплощения в жизнь достигнутых договорённостей весьма высоки. Однако пока никакой конкретики нет – видимо, стороны не спешат слишком громко распространяться на эту тему.
Беседу вёл Денис Кириллов
Продолжение следует…