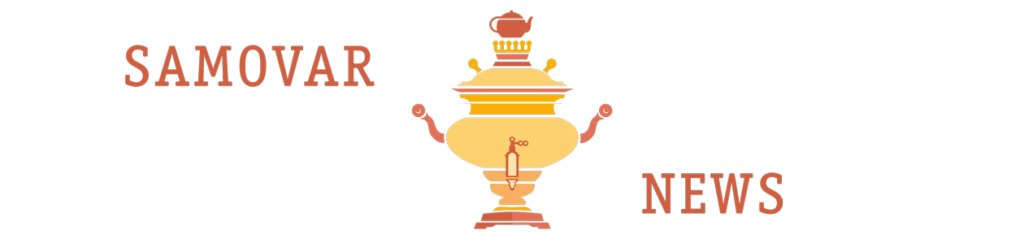.

.
Хунта за хунтой – мечта революционера
– Что происходило дальше?
– Следующий важный период в истории страны – с 1962-го по 2011 год, когда у власти стояли военные. 2 марта 1962 года бирманской армией во главе с её главнокомандующим генералом У Не Вином был совершён государственный переворот, который привёл к кардинальному изменению вектора развития. Уже в апреле того же года была опубликована декларация «Бирманский путь к социализму». И с 1963-го началась широкомасштабная национализация всех отраслей экономики и перестройка Бирмы на социалистический лад.
Причиной такого поворота в значительной степени стало то, что генерал У Не Вин довольно часто посещал Советский Союз и активнейшим образом общался с советским руководством, а в 1960-е именно социализм виделся как наиболее перспективное направление развития с точки зрения государственного строительства.
В итоге в Бирме была установлена однопартийная система, кооперировано сельское хозяйство, развёрнуты широкие социальные программы, в частности, в области образования и здравоохранения. И то, что всё это делалось во многом на примере СССР, исторический факт. Но, несмотря на определённые успехи, например, в тех же здравоохранении и образовании, со строительством полноценного социалистического общества, а уж, тем более, развитой экономики, ничего не получилось.
Проводимые реформы привели к тому, что производство стремительно падало, рос дефицит товаров. Жёсткие директивные меры по сворачиванию свободного рынка привели к тому, что он просто ушёл в подполье – вся торговля переместилась на «чёрный рынок». И к началу 1970-х власти страны фактически были вынуждены экономическую политику сменить – признанные неудачными социалистические реформы начали постепенно сворачивать. При этом уже в 1974 году была принята новая конституция Бирмы, провозглашавшая уже построенным социалистическое демократическое государство. Впрочем, несмотря на это, вплоть до 1988 года власти страны формально продолжали строить социализм.
Результатом неудачных реформ стали протесты и акции гражданского неповиновения, переросшие в массовые народные волнения. Ключевые события начались 8 августа 1988 года, поэтому их назвали «восстание 8888». Бунтующий народ пытались разогнать, но у властей это не очень получалось. Поэтому 18 сентября произошёл новый государственный переворот, в котором одних военных во власти сменили другие.
Для подавления восстания был создан «Государственный совет мира и развития», что звучало как форменное издевательство, поскольку военные, пришедшие к власти в Бирме, оказались гораздо более жёсткими, чем их предшественники. В стране ввели военное положение, применили драконовские меры для разгона протестующих, сурово наказали зачинщиков, бунтовщиков и недовольных. На этом «восстание» и закончилось.
Между тем, именно с того времени начала восходить звезда будущего национального лидера как минимум части Бирмы – Аун Сан Су Чжи. Это дочь Аун Сана, которая активно участвовала в тех протестах. А после – стала главным оппозиционером действующей власти, выступая против правления военных все последующие десятилетия. Будучи лицом всех оппозиционных сил и лидером демократического движения своей страны, она даже получила Нобелевскую премию мира.
В 1990-м уже новые военные власти пытались провести выборы, и как раз её партия «Национальная лига за демократию» получила 80% мест в парламенте. Однако хунта те выборы не признала, и всё закончилось тем, что Аун Сан Су Чжи попала под домашний арест, под которым находилась вплоть до относительно недавнего времени.
.

.
Мьянма вместо Бирмы, распад соцлагеря и изоляция
– В 1989 году новые военные власти переименовали Бирму в Мьянму. Почему?
– До этого переименования государство официально называлось «Социалистическая Республика Бирманский Союз», сокращённо – Бирма. На самом деле, Мьянма означает то же самое, что и Бирма. Большой разницы, в принципе, нет. «Мьянма» (myanmar) – название бирманцев, а «Бама» (bamar) – его разговорный аналог и самоназвание народа. Однако британские колонизаторы, исказив слово «Бама», дали стране своё наименование – «Бирма», которое так и не стало популярным среди местного населения. И военная хунта, пришедшая к власти в ходе госпереворота 1988 года, решила заменить искажённое название иностранного происхождения на правильное, закрепив таким образом полный разрыв независимого государства с периодом колонизации и оккупации страны.
Кстати, Запад не признал правление военной хунты, как и переименование государства в «Союз Мьянма». Поэтому в официальных американских и британских документах страна до сих пор называется «Бирма». Хотя в октябре 2010 года она была ещё раз переименована, с тех пор официально она – «Республика Союз Мьянма».
Но вернёмся к последствиям переворота 1988-го – на самом деле в тот период последовало достаточно много различных переименований. Например, построенный британцами крупнейший портовый город Рангун (являлся столицей Бирмы с момента обретения страной независимости) переименовали в Янгон. С 1989 года Янгон оставался мьянманской столицей, пока в центре страны не построили Нейпьидо, который с 2005-го считается главным городом Мьянмы. Между тем, названия «Рангун» и «Янгон» принципиально ничем не отличаются (как и в случае «Бирма» – «Мьянма»), за исключением того, что первое считалось неким наследием Британской империи. Якобы название «Рангун» возникло в период колонизации в результате англизации произношения прежнего названия города.
Во многом все эти переименования были связаны с неудачами социалистических реформ и началом перехода к новому этапу развития. Довольно быстро весь нарратив, риторика и пропаганда в Мьянме в значительной степени сместились в сторону национализма. Вплоть до того, что бирманцы провозглашались народом, который всех своих соседей окультурил, поскольку до того они были не иначе как недоразвитые и безнадёжно отсталые. Именно на этом фоне и шли переименования всего и вся.
– Как ещё политика новой хунты отразилась на стране?
– Более жёсткая политика военных вылилась в ещё бóльшую, нежели раньше, изоляцию Мьянмы со стороны Запада. А отход от социалистической идеологии, а затем распад и Советского Союза, и соцлагеря, вообще привели к потере всякой поддержки мьянманского государства извне.
Нужно сказать, что, в принципе, СССР воспринимал социалистические реформы 1960-х в Бирме без особого энтузиазма. Считалось, что бирманцы неправильно поняли социализм и марксизм, и строят что-то непонятное и совершенно другое. Поэтому и мощной поддержки со стороны Советского Союза не наблюдалось. При том, что в целом советское и бирманское руководство всегда довольно активно общалось. То есть, некий интерес к Бирме СССР явно проявлял, но процесс и методы реализации реформ заставляли сильно усомниться в возможностях построения в этой стране социализма.
– Китай никак не влиял на перспективы социалистического строительства в Бирме?
– КНР тогда пожинала плоды «культурной революции», поэтому китайцам, по большому счёту, было не до того. Конечно, им совсем не нравились боевые действия в приграничных с Китаем горных районах. Поэтому «Коммунистическая партия Бирмы», которую создавал ещё Аун Сан, вела войну на периферии с сепаратистами при прямой и полной поддержке КНР.
Здесь важно подчеркнуть, что вообще с момента обретения независимости Мьянма старалась поддерживать отношения со всеми, кто шёл с ней на взаимодействие. Но сказать, что кто-то в этот исторический период был её сюзереном – нельзя. Ничего даже похожего на это не было в принципе. Однако стремление бирманцев к абсолютной независимости имело свою цену.
В итоге страна находилась в глубокой изоляции и, соответственно, варилась в собственном соку, что происходит и сейчас. А в 1990-е против неё были введены дополнительные санкции, ещё больше усугубившие положение. Всё это вместе – перманентная гражданская война, незавершённое формирование государственности из-за убийства Аун Сана и изоляция – привело к тому, что Мьянма просто не имела возможности полноценно развиваться. Страна превратилась в одну из самых слаборазвитых в Юго-Восточной Азии, при том, что, как до, так и во времена британской колонизации, она считалась очень богатой.
Между тем, было очевидно, что соседи, тот же Таиланд, например, развивается крайне активно и успешно. Кстати, и по сей день самая значительная часть трудовых мигрантов в Таиланде – мьянманцы, экспорт которых составляет важную статью доходов бюджета Мьянмы, да и её жителей.
Соответственно, с того времени – не сразу и не быстро, конечно, но начался процесс переосмысления мьянманским руководством пути дальнейшего развития и обустройства государства. Ускорение этому придала так называемая «Шафрановая революция».
.

.
Субсидии на топливо и монахи-революционеры
– В Мьянме тоже была «Цветная революция»?
– Не совсем. «Шафрановая революция» названа по цвету одеяний буддистских монахов, которые стали основной движущей силой серии антиправительственных протестов в Мьянме в середине августа 2007 года. Были достаточно мирные выступления, хотя и массовые. Причиной недовольства стала отмена военным правительством субсидий на топливо для домохозяйств.
В принципе, субсидии – это отголосок тех самых неудавшихся социалистических реформ. Но выплаты эти были крайне важны для простых мьянманцев. Тем более, что они были весьма значительные – выдавались посуточные талоны, позволявшие получать более 220 л топлива в месяц на один автомобиль. Так что для людей такая поддержка была очень значима, особенно с учётом крайне низкого уровня благосостояния населения страны.
Военное правительство довольно долго не касалось этой темы, понимая, что любое вмешательство неизбежно вызовет массовое недовольство. Однако сложное экономическое положение Мьянмы заставило государство пойти на резкие, но необходимые изменения. В итоге отмена субсидий привела к резкому росту цен, которые выросли в разы: дизтопливо подорожало где-то вдвое, а газ, на котором работает главным образом мьянманский общественный транспорт, впятеро. Всё это вылилось в акции протеста. А поскольку у власти стояли военные, которые уже не раз разгоняли недовольное чем-либо мирное население силовым путём, эти выступления возглавили монахи.
Монахи очень уважаемы в бирманском обществе, и хунта понимала, что трогать их нельзя. Но с акцией явного неповиновения властям надо было что-то делать, причём быстро. Ничего нового военные придумать не смогли, поэтому и этот протест закончился силовым разгоном недовольных. По официальным данным, тогда погибло 13 человек – военные якобы стреляли поверх толпы, но пули попали в протестующих рикошетом от зданий. Между тем, по данным оппозиции, в ходе «Шафрановой революции» было убито порядка 2 тыс. человек.
Здесь и далее нужно понимать, что с цифрами, статистикой по Мьянме всегда было крайне сложно. Период изоляции, начавшийся в 1960-е и продолжающийся по сегодняшний день с некоторыми периодами «оттепели», сказывается на доступе к данным. В итоге официальная статистика далеко не полная и зачастую сомнительная. Но альтернативные источники, включая оппозиционные и всевозможные западные ресурсы, ещё в меньшей степени адекватны. И это – большая проблема. Разброс данных при любых подсчётах настолько велик, что анализировать реальное положение дел очень непросто.
Что касается последствий «Шафрановой революции», руководство Мьянмы окончательно уверилось в том, что систему государственного управления необходимо как можно скорее менять. Чтобы сохранить страну и начать развиваться, нужны новые технологии и инвестиции, чего невозможно получить, вечно находясь в полной изоляции от всего остального мира. Пример соседей наглядно показывал, что для этого требуется перестроить, по крайней мере, фасад действующей политической системы.
.

.
Есть у революции начало, нет у революции конца
– И военные обновили фасад?
– Именно. Поэтому в 2011 году период правления военных хунт, начавшийся в 1962-м, как бы закончился. Руководство Мьянмы стало формировать гражданскую систему управления государством. Формально, и тем не менее. Кадры для этого набирались в основном из отставных военных, президентом страны стал бывший главнокомандующий, но в целом 2011-2015 годы были периодом оттепели, послаблений и либерализации.
На самом деле задача состояла в том, чтобы создать гражданское правительство, подконтрольное военным. Такая «витрина» позволяла сформировать для Мьянмы нормальный политический фон, который приняло бы глобализированное на тот момент мировое сообщество. А благодаря этому, привлечь и значительные инвестиции в экономику страны. Мьянманские власти внимательно следили за тем, как это происходило в соседних Таиланде, Малайзии и других государствах региона, и рассчитывали на то, что примерно то же самое получится повторить и в Мьянме. И, в принципе, на начальном этапе перестройки это сработало.
В 2015-м впервые с 1988 года в стране прошли всеобщие свободные, открытые и честные выборы, на которых победила оппозиция во главе с Аун Сан Су Чжи и партией «Национальная лига за демократию». Военные прекрасно понимали и предвидели, что при открытии нормального политического процесса такой вариант возможен. Поэтому конституция Мьянмы была переписана таким образом, чтобы военные могли контролировать ситуацию при любых раскладах. Была даже внесена специальная поправка, не позволяющая занять руководящий пост конкретно Аун Сан Су Чжи. Было прописано, что главой государства не может быть человек, у которого родственники – иностранцы. А у неё муж – британец, дети – граждане Великобритании. Однако тут оппозиция переиграла военных.
– Как именно?
– «Национальная лига за демократию» сформировала своё правительство. А затем, хотя президентом был назначен Тхин Чжо – сторонник и помощник Аун Сан Су Чжи, реальная власть в стране была передана непосредственно ей. Чтобы это провернуть, оппозиция пошла на юридическую уловку. В системе государственного управления была создана новая должность – «государственный советник», полномочия которого оказались значительно выше и шире, чем у всех остальных представителей власти. И так получилось, что запретить это сделать было просто невозможно.
Впрочем, изначально всю полноту власти оппозиции получить не удалось бы в любом случае, ведь для этого нужно было бы изменить конституцию Мьянмы, что можно было сделать, лишь получив большинство в парламенте. Но дело в том, что на такой случай в основном законе страны было прописано, что всеобщим голосованием избирается лишь часть депутатов парламента. Другая же часть мест высшего законодательного органа Мьянмы была зафиксирована как неизбирательная и зарезервирована за военными. А учитывая, что в дополнение к этому военные имели возможность участвовать во всеобщих выборах и проводить в парламент своих представителей и на общих основаниях (при помощи подконтрольных им политических партий и провоенных организаций), получить достаточное количество голосов для внесения своих изменений в конституцию оппозиция фактически не имела никакой возможности.
Таким образом, в стране была создана достаточно своеобразная политическая система, которая просуществовала с 2015 года по февраль 2021-го. Формально в этот период в Мьянме правило гражданское правительство, реально – своего рода дуумвират. Расчёт был сделан именно на то, что практически вся экономическая сфера отдавалась на откуп прозападной части общества. Теперь бывшая оппозиция должна была заниматься тем, на что внешний мир и, в частности, западные страны не хотели идти в коммуникации с военными – развитием экономики и привлечением инвестиций. В то же время военные сохранили за собой часть государственных функций, относящуюся к силовому корпусу. Армия и все прочие силовые ведомства, обеспечивающие безопасность, сохранность и целостность страны, продолжали подчиняться исключительно им.
Правда, впоследствии выяснилось, что одним из главных минусов созданной системы было то, что Аун Сан Су Чжи и её команда оказались далеко не самыми хорошими управленцами. Всю свою жизнь они занимались борьбой против военных хунт и были не более, чем «вечными оппозиционерами». Опыта созидания и государственного строительства у них не было. Более того, все люди, которых они назначили на руководящие должности, тоже выбирались главным образом по принципу «заслуг перед делом революцией», а не по их профессиональным качествам, опыту и знаниям. Поэтому довольно быстро с управлением страной возникли огромные проблемы.
Соответственно, и достижения Аун Сан Су Чжи оказались довольно смазанными. Большие надежды и высокие перспективы контрастировали с конкретными результатами на местах, которые оказались совсем не впечатляющие. Был, конечно, некий приток инвестиций, позволивший даже заговорить о начале периода достаточно динамичного развития. Но во многом это было своего рода авансом на будущее, чтобы поддержать продемократические перемены в стране. Но надежды и перспективы так и не оправдались. Возможно, именно потому, что, вместо повышенного внимания к развитию экономического сектора Мьянмы, оппозиция продолжила класть все свои силы на «борьбу за дело революции». И эта борьба привела Мьянму к тому, что сейчас.
.

.
Старуха и разбитое корыто
– Как это произошло?
– Осенью 2020 года в стране проводились выборы, по итогам которых сложилась очень интересная ситуация. Задача, которую ставила перед собой Аун Сан Су Чжи и «Национальная лига за демократию», это окончательно освободиться от опеки военных, причём, любой ценой. Специфика избирательного процесса в Мьянме предполагает, что побеждает тот, кто просто больше других набрал голосов в свою поддержку в отдельном округе. И «Национальная лига за демократию» решила воспользоваться особенностями избирательного законодательства, для чего задействовать все возможные приёмы и уловки, включая и запрещённые (в том числе и откровенный обман), чтобы получить желаемый результат. При этом «демократы» более грамотно использовали информационную поддержку, пропаганду и пиар. В итоге формально они победили на выборах. Вместе с тем выяснилось, что за «Национальную лигу за демократию» проголосовало далеко не большинство населения Мьянмы. К тому же в ходе избирательного процесса «демократами» было допущено просто огромное число нарушений.
Отлично понимая, что делалось это всё сторонниками Аун Сан Су Чжи исключительно для того, чтобы переписать «под себя» конституцию, военные попытались решить проблему в рамках действовавшего на тот момент избирательного законодательства. Они зафиксировали и задокументировали все нарушения, допущенные во время выборов «Национальной лигой за демократию», но подконтрольная «демократам» избирательная комиссия просто отказалась их рассматривать. Собственно, именно поэтому всё и закончилось тем, что в феврале 2021 года военные вернули себе всю полноту власти силовым путём.
В информационном поле многие часто упоминают это событие как военный переворот. Однако с юридической точки зрения это, мягко говоря, неверно. Когда военные вносили поправки в конституцию Мьянмы, они прописали для себя возможность откатить ситуацию назад, в случае если что-то пойдёт не так. Так, при угрозе национальной безопасности военные получают право взять власть в свои руки на определённый период времени, обязуясь впоследствии вернуться в рамки демократических процессов развития страны и провести выборы. Ещё раз подчеркну – этот момент чётко прописан в основном законе Мьянмы, и военные им воспользовались на вполне законных основаниях. Так что конституцию страны – а её, ведь, никто не отменял – они не нарушали.
С тех пор правительство Мьянмы снова стало военным, называется теперь – Государственный административный совет. Страна перешла к новому этапу развития. В будущем военные обязуются провести выборы – процесс подготовки к ним идёт, формируется избирательная комиссия и так далее. То есть, это не просто слова. Другой вопрос – как именно в итоге всё это будет организовано и когда.
Что касается политических функционеров, составлявших гражданское правительство – в основном это были представители «Национальной лиги за демократию», в апреле 2021 года они создали теневое «Правительство национального единства». Сейчас они борются за то, чтобы представлять Мьянму как минимум во внешнем мире. Формально утверждают, что ведут борьбу с «военной хунтой», находясь на территории своей страны.
– На самом же деле это правительство в изгнании, обосновавшееся за рубежом?
– Где они находятся толком не известно. Но очевидно, что большинство из них скрывается за границей. Как и раньше, крайне активны в информационном поле, на котором стараются создать видимость своей неимоверной силы и мощного влияния в регионе. Регулярно просят финансовую помощь и вооружения у Запада, в частности у США. Правда, никто им особо ничего не даёт, поскольку их реальное значение и влияние очень невелико.
В то же время Аун Сан Су Чжи была осуждена – ей дали более 30 лет тюрьмы, но сократили срок заключения до 27 лет, а меру пресечения изменили на домашний арест. Хотя периодически появляются слухи, что она всё же в тюрьме.
.

.
Акции с кастрюлями и «городские партизаны»
– Смена власти спровоцировала беспорядки в стране?
– Переход власти в Мьянме к военным далеко не все восприняли с восторгом, учитывая, что до этого, хоть и недолго, было время либерализации и послаблений – относительно комфортный период для определённой части мьянманского общества. А к хорошему быстро привыкаешь. Поэтому были, конечно, всевозможные акции неповиновения.
Правда, основная часть населения, памятуя события 1960-х, прекрасно понимала к чему это может привести, и опасалась выходить с протестами. Поэтому широкомасштабные акции неповиновения, заключавшиеся в том, что в определённое время вечером люди выходили на улицы и стучали в кастрюли, достаточно быстро закончились. Митинги тоже были, но без чрезмерного фанатизма. Своё недовольство народ показал, но разворачивать какую-то непримиримую борьбу явно никто не собирался.
Совсем другое дело – молодёжь, главным образом подростки, которые ничего, кроме периода демократических реформ, по сути, и не видели. Они были настроены более решительно, жёстко и даже радикально. Это вылилось в погромы и столкновения с силовиками. Однако понимая, что военные, вставшие у власти, обладают гораздо большей силой, молодёжь постепенно ушла в подполье. И в Мьянме появились так называемые «городские партизаны», которые занялись, по большому счёту, террором в самых различных его проявлениях. Собственно, это и стало их основной деятельностью. Закладывались всевозможные самодельные взрывные устройства, от подрыва которых страдали в основном служащие госсектора – учителя, врачи, полицейские, чиновники низового уровня и так далее. Часто под удар попадали и совершенно случайные мирные люди.
Задача была как можно больше навредить правительству, не давая ему управлять государством, создавая проблемы. Дотянуться до каких-либо значимых «верхов» у них не было никакой возможности, и они развернули вот такой террор, направленный на запугивание госслужащих низового уровня и населения страны в целом. И хотя эти акции запугивания были достаточно мелкие, их было очень много. К тому же проводились они довольно широко по всей Мьянме. Никаких территорий «городские партизаны» не контролировали, тем не менее, успешно терроризировали население своей страны в течение долгих месяцев. Но волна недовольства сменой власти постепенно спадала, акции устрашения «городских партизан» потеряли первоначальный смысл. И наиболее радикальные из них, вошедшие в раж, стали переходить в этнические вооружённые формирования, действующие по периферии Мьянмы на не особо подконтрольных государству территориях.
Кстати, аналогичная ситуация сложилась в 1980-х, когда часть протестовавших, радикально настроенных бирманцев тоже уходила в поисках поддержки на периферию. Этнические группировки принимали перебежчиков, обучали их и вооружали. Но нужно понимать, что все эти периферийные народы находятся в оппозиции не только к центральному правительству, но и вообще к бирманцам как таковым. Естественно, что и бирманцев-перебежчиков воспринимали не иначе как инструмент борьбы с бирманцами же за независимость своих этносов.
В 2021 году эта история, по сути, повторилась. На периферии из «городских партизан» этнические вооружённые формирования стали создавать боевые группы для борьбы с правительством Мьянмы – так называемые «Силы народной обороны». Различной, на самом деле, степени подготовки, вооружения и взаимосвязанности. Многие из них не имеют друг к другу никакого отношения и действуют автономно. И это совершенно не случайно. Потому, что этнические группировки делают всё это исключительно с целью насолить центральным властям и военным, используя «Силы народной обороны» в качестве как бы своих «прокси». Создание же из бирманцев, пусть даже оппозиционеров, какой-то действительно мощной боевой силы, да ещё и единой, совсем не в интересах периферийных народов.
– «Правительство национального единства» имеет какую-то связь с группировками «Сил народной обороны»?
– На этот счёт есть очень большие сомнения. Если отталкиваться от того, что это совершенно разрозненные отряды, совершающие разнонаправленные действия, то вряд ли.
– А кто вообще поддерживает мьянманскую оппозицию, да и все эти периферийные этнические группировки? Американцы, коллективный Запад?
– Запад, безусловно, поддерживает Аун Сан Су Чжи как лауреата Нобелевской премии мира. Как и в целом её политику, направленную на проведение демократических преобразований. Но нужно сказать, что вмешательство Запада и, в частности, американцев в мьянманские дела сильно ограничено. Моральная поддержка – да, санкции против военной «хунты» – конечно. Но практически ничего более значимого и серьёзного, поскольку те же американцы уделяют Мьянме не слишком много внимания – для Запада это малозначимая, третьестепенная история.
С этническими группировками – другая история. Их благосостояние, положение и деятельность обеспечиваются за счёт так называемого «Золотого треугольника». Для Мьянмы это очень важная история и, к тому же, достаточно уникальная.
Беседу вёл Денис Кириллов
Продолжение следует…